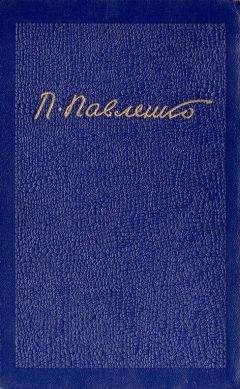Константин Поливанов - Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения
В следующих главах – новые встречи с Гумилевым и прием М.А. в «ПБО» – тайное общество во главе с профессором Таганцевым, за участие в котором Гумилев был расстрелян. Дальше следуют новые встречи с Эльгой, таинственные поездки (мельком упоминается наводнение на кладбище – быть может, ссылка на еще один «основополагающий» текст петербургской традиции – «Медный всадник»?), начинающийся роман, который скоро приводит к дуэли с Гумилевым (естественно, собираясь на дуэль, которая должна происходить на месте пушкинской, М.А. вспоминает о дуэли Гумилева и Волошина). Но еще до этого М.А. мучается ревностью, мечтает или застрелиться или убить Гумилева (описание ножа, мучений М.А. и прочее кажутся сошедшими со страниц «Идиота» Достоевского, и в отношениях М.А. и Гумилева проступает рогожинско-мышкинская линия «петербургского текста». Впрочем, клеймо фирмы на клинке ножа Dicson sons Sheffield одновременно вплетает сюда и мотив Диккенса – «Давида Копперфильда»). Он наблюдает за Эльгой и Гумилевым, а затем ждет их возвращения так же, как «драгунский Пьеро» в ахматовской «Поэме без героя»: «С отчаянием блоковского арлекина смотрел я, как усадил Гумилев мою подругу в извозчичью пролетку и увез кататься по Невскому <…> У подъезда ждать нельзя, столкнешься с Гумилевым, надо на лестнице у дверей квартиры» (с. 485).
М.А., Эльга и Гумилев встречаются с утопленным Григорием Распутиным и, получив от него бутылку с крещенской водой (у Зенкевича было стихотворение про убийство – «Водосвятие Распутина»), отправляются на встречу с Николаем II, который отговаривает их от мятежно-заговорщических планов. Сам Николай выходит к ним с садовыми ножницами из оранжереи – ср. в стихотворении Зенкевича 1918 года «Царская ставка»: «…Только бы выбраться с семьей отсюда. В зеленой Англии виллу купить. Скрывшись от всех, за оградой в саду Подбивать деревья, грядки копать…».
Столь же таинственным образом М.А. в конце концов оказывается уже не в Петрограде, а в деревне, надо понимать, Саратовской губернии. Забывая о поручении Эльги добыть «крестьянскую ладанку», М.А. влюбляется в деревенскую девушку Наталью (возможно, здесь аналогии с «Серебряным голубем» А. Белого), но пришедшие цыгане (ср. гумилевское «У цыган») сперва напоминают ему о поручении, а затем выкрадывают его самого, и он вновь оказывается у Эльги, на этот раз на вилле в Финляндии, откуда они на самолете прилетают в Москву. Здесь уже включается расхожий сюжет литературы и кинематографа 1920-х годов и последующих лет, где под маской иностранцев всегда скрываются вредители и белоэмигранты. М.А. пытается сбежать от своих спутников, Эльга же, заметив его «предательство», сбрасывает его с самолета. На этом кончается фантасмагория, и М.А. возвращается к нормальной советской жизни. Вновь зайдя в подвал «Бродячей собаки», он не видит там ничего, кроме обычного дровяного склада (ср. с пожаром «Совы» в «Плавающих и путешествующих» М. Кузмина), исчезло место, «где терялось представление о времени» (с. 485). Уже в кузминском романе «Сова» (то есть «Бродячая собака») представляется как своего рода храм, с периодами совиной ночи, соответствующими «литургии оглашенных» и «литургии верных»[108].
В храме, в церковной службе присутствует иное представление о времени, в рамках которого вполне возможна встреча живых и мертвых и т. д. – этим приемом многократно пользовались русские писатели в конце XIX – начале XX века, начиная с чеховского «Студента» и кончая «Мастером и Маргаритой» и стихами из «Доктора Живаго», где подключение «литургического времени» дает возможность именно смешения времен[109].
Приезд в Петроград из Саратова и приход в «Бродячую собаку» выводят жизнь М.А. из нормального русла, было ли это наваждение или результат тифа. Выздоровление, «освобождение» от «злых чар» приходит с уходом из «мертвого» города. Подобная символика могла играть роль и «оправдания» Зенкевича, служить в новой политической ситуации «охранной грамотой» для участника «буржуазных» литературных групп и друга расстрелянного поэта – недаром, собираясь печатать роман, автор отнес его Фадееву.
«Мужицкий сфинкс» можно воспринимать как текст, посвященный памяти Николая Гумилева, так же как и посвященные Зенкевичем его памяти переведенные в 1922 году стихи А. Шенье. Таким образом, роман ставится в ряд с воспоминаниями А. Белого о Блоке и «Охранной грамотой» Б. Пастернака, которая была начата как дань памяти Р. М. Рильке и завершилась обращением к гибели В. Маяковского, таков же был импульс к созданию многих прозаических опытов М. Цветаевой (в определенной степени в этот ряд можно поставить и «Доктора Живаго», в котором Пастернак отчасти воплотил «в жизнь» идею своего героя Н. Н. Веденяпина о том, что «общение между смертными бессмертно»).
Текст Зенкевича принципиально отличается от воспоминаний А. Ахматовой – и от относительно завершенных ее воспоминаний, и от записей в рабочих тетрадях, и от тех ее «мемуаров», которые сохранились в дневниках ее собеседников с 1920-х до 1960-х годов (П. Лукницкий, Л. Чуковская и многие другие. Бесспорно, Ахматова, наговаривая свои рассказы, которые называла пластинками, отчетливо ориентировалась на то, что ее слова фиксируются собеседниками, имеем дело с ее «литературным» текстом). Ахматова постоянно стремилась создать картину прошлого, состоявшую прежде всего из «фактов», «событий», рассказов о том, «как было на самом деле», и неудивительно, что «Петербургские зимы» Георгия Иванова ей так не нравились. Даже если бы Иванов не сообщал фактов, идущих вразрез с ее концепцией минувшей эпохи, у него была иная литературная установка – передать атмосферу времени, не заботясь о точности деталей. В известной степени «Шум времени» Мандельштама и «Охранная грамота» Пастернака ближе по установке как раз к ивановским воспоминаниям. Позиция Ахматовой, напротив, оказалась существенно ближе Надежде Мандельштам в ее оценках чужих текстов (ее собственные книги, наоборот, чрезвычайно часто грешат против фактов, но замечательно передают дух эпохи 1920– 1960-х годов). Недаром, говоря о Зенкевиче, она пишет: «В последние годы он часто навещал Ахматову <…> Он утешал ее своими рассказами, и она уговаривала меня узнать у Мишеньки все про “Цех” и акмеизм, а затем записать его путаные рассказы в должном порядке». Порядка в рассказах Зенкевича, как и в его книге, с точки зрения Ахматовой и Надежды Мандельштам, не было, да и не могло быть, ведь, как я уже цитировал выше, «Факты он обходит, они ему не нужны»[110].
Диалоги
В. Маяковский в «Охранной грамоте» и «Людях и положениях»