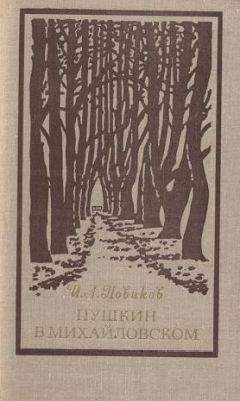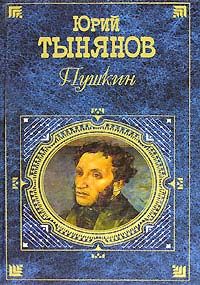Семен Гудзенко - Завещание мужества
Смерть пощадила Гудзенко.
Семен Гудзенко остался в моей памяти человеком высокой коммунистической морали, широкой культуры, большой души, бесстрашным бойцом-комсомольцем.
Илья Давыдов, врач батальона 2-го полка бригады особого назначения
Начало пути
Даже теперь, спустя много лет, я вижу его живого и беспокойного, а за каждой его строкой из блокнота или стихотворения — бурю событий и множество юношей, которые окружали Семена и с которыми мне выпало счастье вместе встать на защиту Родины. Гудзенко протестовал против войны всем сердцем, всем своим существом и потому, что протестовал, — воевал. Я познакомился с Семеном в один из сентябрьских вечеров сорок первого в Челюскинской, где размещался наш батальон.
В комсомольскую роту я зашел по обязанности врача батальона. Это было одно из самых шумных и беспокойных подразделений, которое наши кадровые командиры шутя называли «студенческим» или «ротой философов». А здесь действительно было много студентов из Института философии и литературы имени Чернышевского. Впрочем, были в роте не только студенты, но и юноши прямо со школьной скамьи.
В тот вечер, когда я зашел в комсомольскую роту, стреляли. Стреляли неистово. И над Москвой взметалось багровое зарево, сновали бледные полосы прожекторов и на мгновение, схлестнувшись, разбегались в разные стороны, вспыхивали осветительные бомбы, словно хищные глаза, сброшенные с вражеских самолетов. Тихо вздрагивала земля и веранда казармы, где перед отбоем на сон собралась рота.
Была объявлена воздушная тревога. Я потребовал, чтобы бойцы укрылись в щели, отрытые за казармой. Бойцы глухо протестовали. Высокий стройный юноша — это и был Семен Гудзенко, — хмуро сдвинув густые черные брови, молчал.
Молчал, но явно злился. Потом недовольно вздернул плечом и, захватив шинель, направился к выходу. А потом я услышал голос Гудзенко из щели:
— Таких здоровенных парней гоняют в щели… А немцы напирают на всех фронтах!
Эти слова выражали настроение не только роты, батальона, а всех бойцов и командиров нашей большой и необычной бригады особого назначения.
…Еще раз я увидел, как злится Семен, когда наши войска нанесли первый ощутительный удар по врагу под Ельней. Семен испугался, что врага разгромят без нас, а наш батальон, полк, вся бригада — мы так и будем учиться.
В середине октября сорок первого наша бригада особого назначения, поднявшись по боевой тревоге, ушла в Москву.
По улицам, на которых уже возводились баррикады и отрывались ячейки для пулеметов и гранатометов, шла, чеканя шаг, наша комсомольская рота. На затемненном Садовом кольце подчеркнуто сурово звучала песня:
Звери рвутся к городу родному,
самолеты кружатся в ночи,
на последний бой с врагами,
в бой за красную столицу, москвичи!
Запевали, как всегда, Вася Краснушкин и высокий чернявый красноармеец, вчерашний рабочий, а теперь заместитель политрука, Поперник. Слова песни принадлежали Семену Гудзенко и его другу по институту, а сейчас и по роте, тоже поэту — Юрию Левитанскому.
Песня прожигала сердца.
Именно к этим дням — 16–17 октября — относится скупая запись Семена в блокноте: «Темная Тверская. Мы идем обедать с винтовками и пулеметами. Осень 1941 года. На Садовом — баррикады. Мы поем песню о Москве…»
Подразделениям бригады назначили участки обороны. Батальонам 2-го полка, разместившимся в театре и в школе на Бронной, а также в Литературном институте имени Горького на Тверском бульваре, выделили участок от площади Пушкина до Белорусского вокзала, включая Бутырский вал. Среди других задач, поставленных перед бригадой, было патрулирование столицы.
Москва… В те дни она казалась суровой и неуютной. И от этого еще больше щемило сердце. На улицах непривычно мало прохожих, даже военных. Белые и черные квадраты, нарисованные на асфальте, площадь, застроенная фанерными домиками, одетые в серые чехлы кремлевские звезды… Камуфляж. А на стенах домов и на заборах — призывы, плакаты. Чаще других плакат: суровое лицо женщины, поднятая рука — «Родина-мать зовет!».
По улице Горького, звучно печатая шаг, идет патруль. Остановившись, я пересчитываю красноармейцев:
— Один, два… восемь… Двенадцать! Ну да, Блок!
Семен Гудзенко, поравнявшись со мной и словно угадав мои мысли, негромко процитировал на ходу:
Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек…
Из кармана его шинели торчит уголок белой книжицы. Такая же книжица высовывается из кармана у Юрия Левитанского. И у Валерия Москаленко, и у Вити Кувшинникова… У всех бойцов, шагающих в патруле! Такая же книжка лежит и в моем кармане. Английские баллады и песни, переведенные Маршаком. В эти дни возле дверей книжных магазинов, витрины которых мы закладываем мешками с песком, оставляя узкие амбразуры, на лотках идет бойкая распродажа книг. И мы покупаем только те, которые удобно носить в кармане.
Вечером в казарме, в одной из комнат Литературного института, Семен Гудзенко декламировал Киплинга. Когда окончил, сказал раздумчиво:
— Очень сильный поэт! Для солдатского настроения хорошо. Но нам сейчас подходит больше Блок. А лучше всего — Маяковский.
Перед отбоем Семен заглянул в санчасть. Нет, не за медицинской помощью. С тех пор как мы разместились в Литературном, такие короткие вечерние встречи стали у нас традицией. В шкафах, которые мы составили в институтский подвал, я как-то обнаружил оригинальную библиотеку — это были рукописи: стихи и проза студентов-горьковцев с пометками преподавателей.
А спустя несколько дней я узнал, что Семен наотрез отказался уйти из роты в редакцию только что созданной бригадной газеты, куда его пригласили работать. Он хотел видеть врага и стрелять в него. Хотел стрелять по врагу, посягнувшему на Родину, на поэзию, на все, что так страстно любил Семен.
И может быть, потому так взволнованно и отчетливо звучал голос Семена Гудзенко во дворе Литературного института 6 ноября сорок первого года, когда Семен Гудзенко произносил слова военной присяги. Он готовил себя к подвигу.
7 ноября 1941 года полки бригады, держа равнение на Мавзолей, прошли по Красной площади. А спустя несколько часов уже садились в автомашины. Батальон выезжал на фронт. Лицо Семена было торжественным.
Михаил Луконин
Талант на гребне жизненных испытаний
Мы и не заметили, как завечерело. Отполыхал большой закат, угомонились краски, остыл пепел облаков. Из-под Шауляя доносились орудийные раскаты, мимо нас по магистральной дороге проходили танки, взвывая на лесном пригорке. Было еще тепло, но уже начали моросить долгие прибалтийские дожди. Армия пробивалась на Шауляй, а на сгибе двухверсток была Рига.