Владимир Каменев - Фронтовые записки
Утреннее солнце освещает верхушки сосен и елей. Здесь, на опушке, лес высокий и стройный, с любого дерева наблюдать удобно. Сразу прийти бы сюда! Неожиданно встречаем командира батальона, с ним человек шесть бойцов и командиров. Майор и капитан вступают в разговор с ним, идёт оживленное обсуждение, в котором я участия, к сожалению, не принимаю. Самому подойти послушать — кажется неуместным, подозвать к себе — не подзывают. Стою в сторонке со своими разведчиками и радистами, улучившими минуту, чтобы снять с плеч лямки и опустить на снег свои тяжёлые ноши.
Обсуждение закончилось. Капитан подзывает меня и приказывает выбрать дерево, удобное для организации наблюдательного и командного пункта. Исполняю быстро. Все подошли к высокой ёлке, одиноко выдвинувшейся перед лесом на поляну.
Давай, забирайся на ёлку, — приказывает мне капитан. — Будешь корректировать огонь вашей батареи по Избытову, а огонь первой батареи направим на Залучье. Туда сейчас первый батальон наступает. Понял? — говорит он, заключая, как всегда нецензурно, деловую часть приказа.
Я вешаю свой автомат понадёжнее на одну из толстых нижних веток и приступаю к ёлке. Лезть приходится медленно: тяжёл я очень и толст, как бочка, в своём многослойном обмундировании. Но минуты идут, забираюсь всё выше и выше. Ёлка определённо удобна для наблюдательного пункта: и высока, и в меру пушиста.,
Выбрал я место, откуда прекрасно всё видно: и две левые деревни, и разделяющий их занесённый снегом овраг, и серая лента шоссе, и действительно, как дымкой прикрытая, какая-то третья деревня (вероятно, Избытово?), и многочисленные серые на белом фоне фигуры наших пехотинцев, небольшими группами и в одиночку разбросанные по целине на разных от жилых строений и от леса расстояниях.
Я громко начинаю объяснять стоящим внизу развернувшуюся перед глазами панораму. Говорю о движении на далёкой серой ленте шоссе отдельных, по-видимому, быстро несущихся грузовых автомобилей с немцами. Людей в деревнях не видно, однако отчётливо вижу группу наших пулемётчиков на поляне, ведущих огонь про какой-то не видной, непонятной мне цели. Вырывающаяся из пулемёта струя кажется временами оранжевой или ярко-жёлтой.
Двойные варежки мои, несмотря на мороз, давно уже болтаются, как на привязи, в рукавицах масккостюма, составляющих с ним одно целое. Пальцы вцепились в бинокль, глаза устали от долгого пристального наблюдения. Очень интересно здесь, наверху, но холодно в то же время.
Снизу никаких команд что-то не поступает, похоже на то, что меня даже никто не слушает.
— Ну, как там? Скоро начнём стрелять? — кричу я, обращаясь к лейтенанту Калугину.
— Давай-ка слезай, — отвечает он мне, — пойдём выбирать другой пункт.
Два чувства одновременно овладели мною, когда я осторожно спускался с ёлки. С одной стороны — досада, что напрасно лазил, не пришлось пострелять, с другой стороны — радостное чувство, что снова на земле, чувство святого нервного напряжения.
Спрыгнув с последнего сучка в снег, я в недоумении огляделся. Под ёлкой уже никого не было. Все ушли, а вот куда — неизвестно. Мимо ели, тяжело ступая след в след, шли на поляну грузные фигуры в масккостюмах с винтовками или полуавтоматами, с подсумками и ручными гранатами у пояса — по-видимому, стрелки батальона. Я обратился к ним, спрашивая, не видели ли, куда переместился командир батальона и остальные, бывшие с ним бойцы и командиры. Никто не знал. Отвечали устало и равнодушно. Несколько минут я смотрел по сторонам, пытаясь сообразить, куда же могли все пойти. Безнадёжно! Следов кругом множество, и немало по сторонам народа — как на опушке, так и в глубине леса. Больше же всего бело-серых точек на открытой поляне. Батальон подтягивался к деревне.
А краснофлотцы батальона всё шли мимо меня и шли.
— Куда идёте? Какая рота? — спрашивал я проходящих. Иные, то ли устало, то ли злобно посмотрев на меня, проходили, не отвечая, мимо, другие отвечали крепкой руганью в чей-то, непонятно, адрес.
— Вторая рота. Подтягиваемся из резерва. В деревню идём, — ответили, наконец, мне. Вот снова мелькнул морской “краб” на чёрной меховой ушанке, выглядывающей из-под белого капюшона. “Командир взвода, может быть, роты”, — мелькнула мысль, и я, пропустив ещё несколько бойцов, влился в их строй и пошел с ними.
“Если деревня уже наша, одна-то, левая, очевидно, наша, то и командир батальона, и майор, и капитан — все, вероятнее всего, двинулись туда. Пойду-ка и я в деревню, преодолею с пехотинцами этот километр пути”, — так думал я, медленно и с трудом шагая теперь уже по открытой поляне, с каждым шагом удаляясь от леса.
Солнце стояло высоко, светило ослепительно, и это радовало, отодвигая как-то на второй план и ужасную усталость, и потребность сна, и голод.
Пехотинцы шли не молча. Они переговаривались, односложно перекидываясь фразами, из которых было ясно, что и голод, и усталость, и желание курить, и общее недовольство были у них как раз на первом, а не на втором месте.
— Шабаш, ребята! Закуривай! — громко крикнул кто-то впереди, при этом все, как по команде, остановились, тут же плюхнувшись в снег. Сел в снег и я, с удовольствием предвкушая минуты отдыха и перекура. Вытянувшись из леса метров на двести, цепочка растянулась. Кто лежал в снегу, кто сидел, опустив ноги в глубокие следы, и уже свёртывал цигарку.
Я сидел в снегу, перекинув автомат за спину и откинувшись, рылся в кармане в поисках коробки с лёгким табаком и портсигара с тонкой папиросной бумагой. Уже извлечён табак, бумага, уже коробочка из-под чая снова спряталась в карман на своё место. Только хорошенький портсигар из светло-кремового целлулоида лежит у меня на коленях, пока я, старательно свернув и склеив слюной сигаретку, вставляю её в свой янтарный мундштук.
Что это за сильный нарастающий гул приближается со стороны леса?
Самолёты! Через секунды гул переходит в сплошной рёв, и, оглянувшись, вижу эти громадные чёрные птицы со свастикой на крыльях, несущиеся прямо на нас, на поляну, низко-низко, над самым лесом.
Трудно, почти невозможно описать то, что произошло в следующие минуты! Лежал лицом вниз, основательно зарывшись в снег, как можно плотнее. Это помню. Пикирование и свисты летящих фугасок, глухие удары, сотрясающие землю, тоже помню. Взрывы совсем близко, чуть ли не рядом, с крупными осколками разорвавшейся бомбы, летящими надо мной. Помню. Перевёртывание в снегу (произвольное или непроизвольное — не знаю!), перемену места... Помню секунды, мгновения перерыва, когда успевал приподняться.
И новые налёты, и снова пикирование, длинные пулемётные очереди по лежащим в снегу, строчки по снегу от пуль, ложащихся совсем рядом, вздымающих снег. Помню, как засыпало снегом лицо. Крики и стоны кругом, кровь на снегу, летящие вверх оторванные руки и ноги, точнее — какие-то окровавленные куски. И невиданное замирание сердца, и дрожь, и единственную, пожалуй, мысль, что всё кончено, что вот-вот пулемётная очередь “мессершмидта” перепилит меня сейчас, прошьёт живот или ноги.

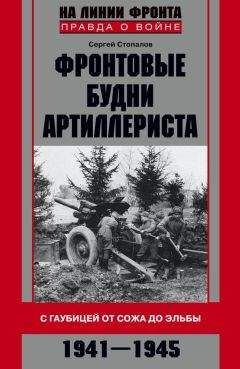

![Леонид Леонов - Живая память. Великая Отечественная: правда о войне. В 3-х томах. Том 3. [1944-1945]](/uploads/posts/books/275812/275812.jpg)
