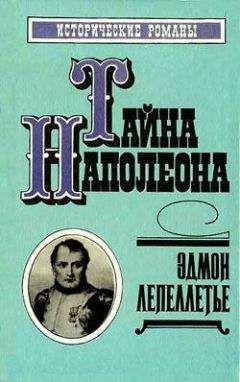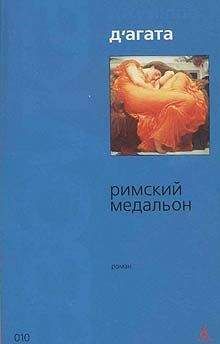Елена Федорова - Императорский Рим в лицах
В своем сумасшествии Калигула превратил принципат в откровен-. ную монархию, лишив его всякой внешности республики. Он требовал, чтобы ему поклонялись как богу, и постоянно повторял слова из одной трагедии: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись!»
Калигуле были присущи поистине сумасшедшая алчность и расточительность; огромное наследство Тиберия в 2 миллиарда 700 миллионов сестерциев он промотал не более чем за год. «Когда у него родилась дочь, то он потребовал от римского народа денежных подношений на ее воспитание и приданое. В первый день нового года он встал на пороге своего дворца и ловил монеты, которые проходящий толпами народ всякого звания сыпал ему из горстей и подолов. Наконец, обуянный страстью почувствовать эти деньги на ощупь, он рассыпал огромные кучи золотых монет по широкому полу и часто ходил по ним босиком или подолгу катался по ним всем телом» (Свет. Кал. 42).
Как пишет Светоний, «Калигула, истощившись и оскудев, занялся грабежом, прибегая к исхищреннейшим наветам, торгам и налогам. Поистине не было человека такого безродного и такого убогого, которого он не постарался бы обездолить» (Свет. Кал. 38, 35).
Калигула ввел невероятное количество налогов, но всю силу своей сумасшедшей жестокости он обрушил на римскую знать. Он требовал, чтобы знатные и богатые люди в своих завещаниях делали бы его сонаследником, а потом объявлял их преступниками, осуждал на смерть и завладевал имуществом.
«Зависти и злобы в нем было не меньше, чем гордыни и свирепости. Он враждовал едва ли не со всеми поколениями рода человеческого. Он помышлял даже уничтожить поэмы Гомера» (Свет. Кал. 34).
Откровенное сумасшествие сквозило во всех его поступках (он, например, своего коня собирался сделать консулом) и проявлялось в его внешности.
«Лицо свое, уже от природы дурное и отталкивающее, он старался сделать еще свирепее, перед зеркалом наводя на него пугающее и устрашающее выражение.
Одежда, обувь и остальной его обычный наряд был недостоин не только римлянина и не только гражданина, но и просто мужчины и даже человека. Часто он выходил к народу в цветных, шитых жемчугом накидках, с рукавами и запястьями, иногда – в шелках и женских покрывалах, обутый то в сандалии или котурны (театральная обувь на очень высокой платформе), то в сапоги воина, а то и в женские туфли; много раз он появлялся с позолоченной бородой, держа в руке молнию или трезубец или жезл, или – даже в облачении Венеры. Триумфальное одеяние он носил постоянно, а иногда надевал панцирь Александра Македонского, добытый из его гробницы.
Гладиатор и возница, певец и плясун, Калигула сражался боевым оружием, выступал как наездник в цирке, а пением и пляской он так наслаждался, что даже на всенародных зрелищах не мог удержаться, чтобы не подпевать трагическому актеру и не вторить у всех на глазах движениям плясуна» (Свет. Кал. 50, 52, 54). Надо иметь в виду, что древние римляне в быту отнюдь не увлекались пением, а танцы для мужчины считались занятием позорным.
Жестокий произвол, откровенный садизм и сумасшедшие выходки императора римляне терпели около четырех лет. Терпение их истощилось, когда Калигула бездумно посягнул на устои рабовладения.
Иосиф Флавий пишет:
«Калигула разрешил рабам выступать с любыми обвинениями против своих господ… Дело дошло до того, что некий раб Полидевк осмелился выдвинуть обвинение против Клавдия, дяди императора, и Калигула не постеснялся присутствовать на суде над своим родственником: он питал надежду найти предлог избавиться от Клавдия. Однако это ему не удалось, ибо он все свое государство наполнил клеветой и злобой, а так как он сильно восстановил рабов против господ, то теперь против него стало возникать много заговоров, причем одни приняли в них участие, желая отомстить за личные обиды, а другие полагали, что от такого императора надо избавиться раньше, чем он ввергнет всех в великие бедствия» (Иос. Фл. И. Д. 19, 1, 2).
Из большого числа заговорщиков самым активным оказался трибун Кассий Херея, претерпевший множество издевательств от сумасшедшего монарха.
«Между тем слухи о заговоре Кассия Хереи распространились среди многих, и все эти люди – сенаторы, всадники и простые воины – стали вооружаться; не было вообще ни одного человека, который не считал бы убийство Калигулы великим счастьем. Поэтому заговорщики по мере своих возможностей старались не отставать друг от друга в проявлении доблести и по возможности от всего сердца способствовать убиению тирана.
Даже Каллист принадлежал к числу заговорщиков. Это был вольноотпущенник Калигулы, человек, достигший величайшей власти, почти такой же, как сам император, потому что все его боялись, между прочим – по причине его огромного богатства: он брал крупные взятки и позволял себе величайшие несправедливости, злоупотребляя властью и отлично зная непримиримую натуру Калигулы, который никогда не отступал от раз принятого решения. Каллист также знал, что имеет много причин опасаться за свою жизнь; особую роль тут играло его несметное богатство. Поэтому он сблизился с Клавдием, дядей императора, и тайно примкнул к нему в надежде, что после кончины Калигулы власть должна будет перейти к Клавдию и что он (Каллист) тогда благодаря своему влиянию займет при новом императоре подобное же видное положение по той причине, что заранее успеет выказать ему свою благодарность и расположение» (Иос. Фл. И. Д. 19, 1, 10).
24 января 41 г. заговорщики во главе с Кассием Хереей убили Калигулу в одном из темных переходов его дворца; ходили слухи, что на ближайшую ночь безумный император назначил празднество и собирался впервые выступить перед публикой как актер.
«Каковы были те времена, можно судить по тому, что даже известию об убийстве Калигулы люди поверили не сразу: подозревали, что он сам выдумал и распустил слух об убийстве, чтобы разузнать, что о нем думают в народе. Заговорщики никому не собирались вручать власть, а сенат с таким единодушием устремился к свободе, что консулы созвали первое заседание не в Юлиевой курии, а на Капитолии, и некоторые призывали истребить память о Цезарях и разрушить храмы Юлия Цезаря и Августа» (Свет. Кал. 60).
Клавдий I
Клавдий был младшим сыном Друза Старшего и Антонии Младшей. В императорской семье его считали недотепой. «Мать его Антония говорила, что он урод среди людей, что природа начала его и не кончила, и, желая укорить кого-нибудь в тупоумии, говорила: «глупее моего Клавдия». Бабка его Ливия всегда относилась к нему с глубочайшим презрением, говорила с ним очень редко и даже замечания ему делала или в записках, коротких и резких, или через рабов. Сестра его Ливия Ливилла, услыхав, что ему суждено быть императором, громко и при всех проклинала эту несчастную и недостойную участь римского народа» (Свет. Клавд. 2).