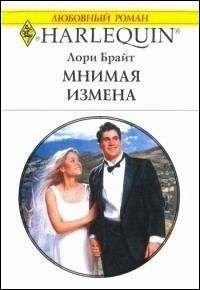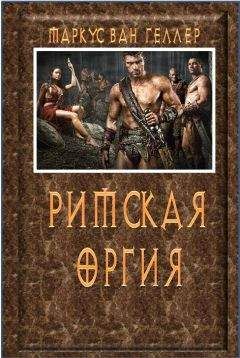Николай Морозов - Повести моей жизни. Том 2
К ним присоединяются солдаты, каждую секунду стреляющие в меня на бегу из своих ружей. Их пули, жужжа, пролетают мимо меня.
Вот одна пронизала все мое тело и улетела, вот другая... Я лечу, весь простреленный, как решето, множеством пуль... Кровь течет из меня и капает на землю, оставляя за мной кровавый след, но я все еще могу лететь и, пока есть хоть капля сил, не хочу сдаваться.
Но мучительней всего был этот проклятый седой, морщинистый старик, приходивший почти каждую ночь бороться со мною. При одном виде его, подкрадывающегося ко мне из-за угла, на меня нападал суеверный ужас, как перед какой-то чисто дьявольской сверхъестественной силой.
И он не преминул явиться ко мне в печальную ночь, которая наступила после моего возвращения в тюрьму из бань, после нового надувательства «сочувствующего лихача-извозчика».
— Нет, — говорил я сам себе на следующее утро. — Более не хочу иметь с этим извозчиком никакого дела. Сейчас же напишу об этом Цвиленеву. Буду сильным! Жизнь теперь этого требует от меня, и притом же мне нет никакого выхода. Если я не убегу, я через несколько недель буду окончательно сумасшедшим.
И я послал письмо Цвиленеву с горячей признательностью за его старания, но писал, что, не веря более в его лихача, хочу бежать на днях сам, под видом «черта», так как наступил уже август и ночи стали теперь совершенно темные. Я просил только указать мне квартиры в окрестностях, куда я мог бы явиться.
Но, раньше чем я отослал это письмо, при возвращении мне моим тайным почтальоном кружки с молоком ее дно принесло мне длинное письмо от Цвиленева, где он, очевидно, страшно сконфуженный неудачей, просил меня не предпринимать ничего отчаянного.
«Извозчик оказался трусом, — писал он. — Несмотря на все мои уговаривания, он в самый решительный момент отказался подъехать к баням. Мы все страшно сконфужены, а я считаю себя прямо ответственным за эти неудачи. Мы сейчас же решили приобрести рысистую лошадь и шарабан. Дайте только мне недели две или хоть дней десять для того, чтобы успеть подучиться ездить. Я сам буду кучером».
Мне было слишком больно огорчить его. Мне казалось, что убежать самому теперь, когда мои друзья так сконфужены, не давши им возможности реабилитироваться — не передо мною, а в своих собственных глазах, — было бы слишком жестоко. Я разорвал свою записочку и вместо нее написал новую с обещанием ждать еще две недели.
И вновь дни пошли за днями в моем одиночестве.
С каждым днем длиннее становились осенние вечера. Уже давно в моей камере по ночам горела лампа, и записочки прилеплялись уже не к кружке, а на дно лампы.
Я не нуждался теперь ни в чем, кроме книг, которых мои друзья не могли передать мне незаметно для моих сторожей, и жажда чтения стала мучительной, сильнее всякой физической жажды. Прошло уже полгода моего одиночного заключения, и, за исключением нескольких дней в петербургском Третьем отделении, я все время не читал никаких книг.
Чтобы скоротать время, я повторял без конца все известные мне стихи Некрасова, Лермонтова, Пушкина, Кольцова и других поэтов.
Раз я, лежа вечером, закинув руки за голову, на своем соломенном тюфяке, вспомнил, как и сам когда-то почувствовал вдохновение и составил стихотворение, сидя ночью один у Армфельда. Мне захотелось писать стихами, но на душе было уныло, и унылое настроение навевало на меня одни меланхолические мотивы, так мало согласовывавшиеся с обычным жизнерадостным состоянием моей души.
Я сам не знаю, как у меня сложилось вдруг четверостишие:
Кругом непроглядною черною мглой
Степная равнина одета,
И мрачно и душно в пустыне глухой,
И нет в ней ни жизни, ни света.
Я записал его спичкой на стене камеры, и оно мне понравилось, но продолжать я не мог. От него стало еще хуже на моей душе.
Теперь я жил с вечным ожиданием сумасшествия и с леденящим душу предчувствием приближающейся ночи и обязательного кошмара со стариком, как только засну. Мысль, что я уже сошел с ума, все чаще и чаще стала навязываться мне.
— Ты уже сумасшедший! Ты уже сумасшедший! — постоянно нашептывал мне один из моих внутренних голосов.
Он прорывался сквозь все, о чем бы я ни думал, мешал всяким моим отвлеченным размышлениям или сочиняемым мною в уме фантастическим романам. Ни днем, ни ночью он не давал мне покоя. Это стало моей idée fixe[14].
Я думаю теперь, что у меня и действительно был тогда приступ острого помешательства, которое развилось бы в настоящее, если бы заключение без книг продолжалось еще несколько месяцев. Я помешался бы на том, что я сумасшедший, и что в припадке безумия я могу назвать своих товарищей, и что третьеотделенские шпионы услышат и запишут их имена по моему бреду.
«Лучше убей себя, — говорил мне один голос, — только не допусти до этого!»
«Но, может быть, я еще не совсем сумасшедший, — отвечал ему второй голос, который говорил от моего имени. — Может быть, я еще поправлюсь, может быть, меня еще успеют освободить! Я не хочу умирать! Самоубийцы — это жалкие, бессильные люди! Много ли их погибло на каком-нибудь геройском деле? Вот Ромео убил себя на могиле Джульетты, убил бесполезно, не принеся никому никакой пользы. Если бы я был в его положении и не мог жить после смерти любимого мною дорогого существа, то я выбрал бы себе другую, более славную смерть на каком-нибудь великодушном героическом подвиге, сделанном в память дорогой для меня души. Зачем умирать бесполезно на могилах, принося лишь отчаяние всем, кто нас любит? Самоубийца — это моральный и физический трус; он бежит из жизни, как обыкновенный трус бежит с поля сражения. Я не хочу быть беглецом, я хочу бороться до конца и не отдам судьбе без нужды ни одной секунды моей жизни, как бы тяжела она ни была».
«Но если бы твоя гибель была неизбежна, неотвратима, если бы ты убедился, что всякая борьба безнадежна, — зачем продолжать борьбу?»
«Для самой борьбы! — отвечал другой голос. — Потому что ведь вся наша жизнь — это борьба за жизнь. Для всех нас конец и без того неизбежен, мы не боимся же его в неопределенной дали, зачем же будем бояться вблизи? Нет, если бы меня стали даже вешать и петля была бы надета уже палачом на мою шею, то я и тогда счел бы малодушием броситься самому в нее, чтобы ускорить смерть. Хоть одна лишняя секунда жизни, сказал бы я себе, — но я ее не отдам им сам, не поддамся страху предстоящей смерти, потому что жизнь есть первая цель каждого сознательного существа, начиная от его рождения... Жертвовать своей личной жизнью можно только для спасения чьей-нибудь другой или, как теперь я, для торжества общечеловеческой жизни».