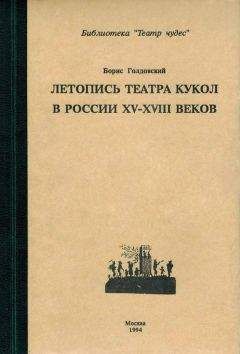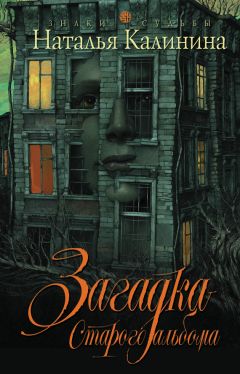Анастасия Баранович-Поливанова - Оглядываясь назад
Кое-какая помощь приходила от дяди с фронта. Первое время он был не на передовой, а в строительных частях, в основном они взрывали, а потом восстанавливали мосты. Однажды он прислал убитого им лося, и мы долго пировали; он был охотник и свой полк тоже подкармливал лосятиной. В другой раз получили от него глыбы глюкозы, доставленные в кузове грузовика. все залитые бензином. Это не помешало нам поедать ее с восторгом. Уж очень не хватало сладкого. И все что-то придумывали, изобретали. Тушили, например, на сковороде тертую красную свеклу, предпочтительно сорт, называемый «Египетский». Она была слаще. Ее намазывали на хлеб, вместо джема. Еще мы покупали (тоже кто-то научил) гомеопатические шарики и сосали их, как конфеты, их отпускали без рецепта, стоили они гроши, и, по-видимому, не все об этом догадывались, иначе, я думаю, гомеопатические аптеки опустели бы. Почему-то мы всегда спрашивали Брионию Зх, просто, наверное, не знали других названий.
Были и другие выдумки, но это уже в целях экономии: картошку жарили тертую, она пускала сок, и требовалось меньше масла, а масло тогда было не подсолнечное, а хлопковое. Осенью отправлялись на Воробьевы горы за желудями. Мама молола их в кофейной мельнице, получался вкусный желудевый кофе. Чая тоже не было, и чтобы не пить пустой кипяток, давили в чашке немного клюквы, ее очень дешево можно было купить на рынке.
Чтобы как-то облегчить людям жизнь и помочь прокормиться, желающим стали предоставлять участки земли под огороды. Это бывали и дачные участки людей, уехавших в эвакуацию, или просто пустыри на окраинах города, или же никогда ранее не возделываемые полоски земли, тянувшиеся вдоль железнодорожных путей. Эти огороды никто не сторожил, и, насколько я помню, никто на них не покушался. Уж не знаю, откуда люди доставали семена, наверное с рынка, а картошку сажали не целую, а тонкий срез с проросшим глазком. Примерно в это же время особо нуждающимся стали давать так называемое УДП. — усиленное дополнительное питание; этот термин сразу же переиначили в «умрешь днем позже».
После того, как мама начала сдавать кровь, мы уже не голодали, но были совершенно раздеты. Мама донашивала старое, а для меня приходилось что-то перешивать, — ведь я росла. Хуже всего было с обувью. Летом 43-го года я ходила по улицам босиком, в жаркие дни асфальт раскалялся и жег ступни. Иногда мы всем двором убегали в Александровский сад и становились, мальчишки в трусиках, а мы, девочки, прямо в платьях, под холодную струю шланга, — у кремлевских стен клумбы поливали даже в войну. Осенью в школе мне выдали ордер на туфли. По этому ордеру я получила брезентовые ботинки на резиновой подошве, тяжелые и неудобные, но я и таким была рада. В магазинах иногда появлялись матерчатые туфли на деревянной подметке.
Трудности были с мытьем. Летом можно было вымыться в кухне, стоя в корыте, а зимой приходилось ходить в баню. Для этого надо было отстоять огромную очередь. Там каждому давали крошечный кусочек простого (так тогда называли хозяйственное) мыла, его едва хватало, чтобы намылиться.
Года с 43-го, — до этого приходилось иногда сидеть с коптилками, — летом готовили на плитке, а на электричество был установлен лимит, и за его перерасход отключали свет, но по известной русской пословице «Голь на выдумки хитра» изобретались способы обходить этот закон. В шнур, подводящий к электросчетчику, вкалывались булавки, на счетчик клали монеты, благодаря таким ухищрениям понижались показания счетчика. Существовало страшное слово МОГЭС. Нельзя было открывать дверь, не спросив «кто там?», и если в ответ раздавалось МОГЭС, надо было срочно вытаскивать булавки и убирать монетки. Те, у кого был газ. готовили по ночам, т. к. его включали только в это время на несколько часов.
Спрашивать «кто там?» приходилось не только из-за возможного появления представителей МОГЭСа. Часто, когда все уже собирались спать или спали, раздавался стук в дверь. Все мужчины из нашей квартиры были на фронте. Моя тетя, как самая храбрая, подходила к двери и спрашивала «кто там?». Ответа не следовало, а затем слышались удаляющиеся шаги. Через некоторое время стук повторялся, и опять никто не отвечал. Это происходило множество раз. Хорошо, что дверь была толстая, крепкая, дореволюционная, и прочная, чугунная цепочка. Ходить в темноте по лестнице тоже было боязно и неприятно — ноги то и дело натыкались на лежащих людей, по большей части мужчин, они, наверное спали, но все равно, перешагивая через тела, становилось жутко.
Было еще одно бедствие. У нас и до войны водились крысы, но почему-то не очень попадались на глаза, только иногда слышался писк крысят. Правда, у нас всегда жили кошки. Но во время войны крыс развелось столько, и они так обнаглели, что входишь, например, в кухню и видишь, как со всех столов спрыгивают громадные чудовища. А как-то раз, входя в уборную.
я увидела крысу, сидящую на унитазе. От неожиданности и омерзения я чуть не подпрыгнула до потолка. Решили опять завести кошку. Подобрали на лестнице котенка — очень несчастного, — мальчишки сбросили его с пятого этажа, на всю жизнь она осталась маленькой и горбатой. Мы так и прозвали ее Горбушкой. Эта бесстрашная крошка набрасывалась на крыс и лихо расправлялась с ними. Вся квартира вздохнула с облегчением, сначала на меня ворчали, а потом даже стали подкармливать моего крысолова.
Наконец осенью 43-го года мы с помощью той же Нади обзавелись железной печуркой, так называемой «буржуйкой», заменив ее впоследствии кирпичной, — железная очень быстро остывала и плохо нагревала комнату. Кирпичи тоже на земле не валялись, нам продала их соседка маминой подруги (если не ошибаюсь, по рублю за штуку), несколько дней я таскала их из Кисловского переулка у Консерватории, зажав по кирпичу в каждой ладони. Печки появились не только у нас, вода в доме больше не замерзала и можно было жить дома. Дров немного выдавали, их нужно было привозить издалека, с каких-то окраин, я уже не помню, как нам это удавалось. На растопку часто шли книги. В прихожей, в огромном шкафу хранились дедовские устаревшие книги по медицине, но попадались и художественные, которые подвергались той же участи. Как-то я извлекла из-под печки переписку Чехова с Книппер и тут же в нее воткнулась.
Не хватало посуды. Старые кастрюли и сковородки кое-как еще служили, а вот чашек не осталось совсем, те немногие, которые не были свезены на дачу, постепенно перебились, и мы пили из старых медицинских банок, гораздо больших размеров, чем современные, их тоже извлекли из дедовского шкафа. Я много помогала маме по хозяйству. Больше всего изматывали многочасовые очереди в булочной на Тверской, к которой мы были прикреплены. Там продавали хороший белый хлеб, и поэтому бывало особенно много народа. Иногда от духоты мне становилось дурно, и я, бросив очередь и судорожно зажав в руке карточки, бежала домой; тогда приходилось идти маме. Когда приближались к прилавку и продавец отвешивал хлеб, протягивались десятки рук стариков и детей, а довесков было один или два, редко три, и вставал мучительный вопрос