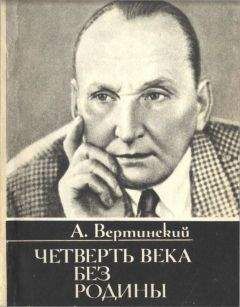Александр Вертинский - Дорогой длинною...
И тем не менее успех у него был потрясающий.
Северянин был человек бедный, но тянулся он изо всех сил, изображая пресыщенного эстета и аристократа. Это очень вредило ему. Несомненно, он был талантлив: в его стихах много подлинного чувства, выдумки, темперамента, молодого напора и искренности. Но ему не хватало хорошего вкуса и чувства меры. А кроме того, его неудержимо влекло в тот замкнутый и пустой мир, который назывался «высшим светом».
Сидя же на чердаке, где‑то на Васильевском острове, на шестом этаже (ход у него, как и у меня, через хозяйку), в дешёвой комнате, было довольно трудно казаться утончённым денди…
В Москве на Тверской — насупротив гостиницы «Люкс»[2] — клоун М. А. Станевский-Бом открыл кафе. Глубокой осенью, когда кафе «Грек» уже закрыли на зиму, мы перекочевали в «Бом» — кафе очень уютное, тёплое и нарядное. Подавали там хорошенькие официантки в белых чистых передничках и накрахмаленных головных наколках. Под стеклом столиков и на стенах — рисунки художников, посещавших кафе, стихи поэтов и автографы литераторов. Кроме того — ещё книга, в которую мы писали хозяину на память рифмованные комплименты.
Там можно было встретить кого угодно. Иногда в «Боме» сидел Алексей Толстой, бывали Эренбург, Сургучев, Анатолий Каменский, Лев Никулин, Владимир Лидин, Дон-Аминадо… Из художников — скульптор Меркулов, Сарьян, Кончаловский, Ларионов, Гончаров, футуристская молодёжь. С неугасающей трубкой с утра до вечера сидел в углу художник Александр Койранский, наезжали из Петрограда Судейкин, Бенуа…
Часто можно было увидеть там Динку сумасшедшую — графиню Роттермунд — в больших жёлтых бриллиантах, которые оттягивали ей уши, ещё очень красивую, но уже увядающую от курения опиума и употребления кокаина. Бывали знаменитая Настя-натурщица, Шурка-зверёк — Монахова, хорошо известные Москве звезды кафешантанов, и много ещё молодых и красивых женщин. Словом, кафе процветало, и мы привыкли к нему.
Как‑то мы с Маяковским шли по Тверскому бульвару от Никитских ворот к Страстному. Мы направлялись в это кафе. Была пронзительная злющая осень. Мелкий колючий дождик залезал нам в нос, в уши, за воротник. Было очень холодно. Мы ёжились и мёрзли. Маяковский читал стихи Ахматовой о Пушкине:
Смуглый отрок бродил по аллеям
У озёрных глухих берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов…
Стихи ему, по-видимому, очень нравились: читал он их задушевно, вполголоса.
Придя к «Бому», мы сели за столик в углу, на бархатный розовый диванчик. В кафе было полно народу. Через минуту к нам подошла чистенькая накрахмаленная подавальщица и спросила:
— Вам что?..
Маяковский задумался. Потом, глядя ей в глаза, спокойно сказал:
— Стакан очень горячего чаю и… драповое пальто!..
Февральская революция многих обрадовала, многих огорчила, но поразила всех, а иных как‑то выбила из колеи. Спешно прикрепляя к груди красные банты, перепуганные буржуа, крупные и мелкие чиновники встретили её с растерянной улыбкой на дрожащих губах, уверяя друг друга, что она и «великая» и «бескровная»!.. Везде, где только можно было, произносились успокоительные речи… Все будет хорошо, вот увидите! Только не надо волноваться! А главное, надо продолжать «войну до победного конца!» — иначе «что же подумают о нас наши союзники?».
На именинах, за кулебяками, на блинах, на банкетах, в кружках и собраниях все те же энергичные помощники присяжных поверенных в форме всевозможных санитарных учреждений, «земгусары», как их называли, стучали ножами по тарелкам, требуя внимания, и, раскупорив застоявшиеся фонтаны ещё не использованного красноречия, рвали и метали в припадках «революционного» патриотизма. Они были всюду. Куда бы вы ни ткнулись, вы везде натыкались на них. Они ездили на фронт уговаривать солдат продолжать войну, соловьями заливались на митингах, грозно бряцали оружием, которого никогда и в руках не держали, и срывали голоса.
На вакантном после отречения Николая престоле сидел «Александр четвёртый» — рыжий присяжный поверенный в защитном френче и крагах с причёской бобриком, как у фельдфебеля. Это был актёр. И плохой актёр!
К нему скоро приклеилась этикетка «Печальный Пьеро Российской революции».
Собственно говоря, это был мой титул, ибо на нотах и афишах всегда писали: «Песенки печального Пьеро». И вообще на «Пьеро» у меня была, так сказать, монополия! Но… я не возражал!
По улицам водили «разоружённых» городовых, прятавшихся кто у кумы, а кто в подвалах «раскамуфлированных» приставов и околоточных с перекошенными от страха лицами. А в милиции, в уголовном розыске, сидела в качестве главного комиссара тоненькая, тщедушная и анемичная, юридического факультета девица Сонечка Вайль и испуганно косилась на блестящий наган, прикрытый сумочкой. Наган лежал на столе перед ней — он полагался ей по чину, а она его смертельно боялась. Я был знаком с Сонечкой. Это была приличная, хорошенькая и несколько рахитичная девственница-барышня, тщательно охраняемая своими родителями. Мы, по их просьбе, по очереди провожали её обычно домой после разных диспутов и лекций, ибо она очень боялась возвращаться одна по тёмным улицам.
На площадях, у памятника Скобелеву, на Страстном, у Манежа с утра до вечера шли митинги. Но все оставалось пока на своих местах: магазины торговали, кафе тоже, театры работали, спешно перестраивая репертуар. В маленьком Петровском театре, где я выступал, режиссёр Давид Гутман, большой шутник и выдумщик, ставил наспех сколоченную пьеску «Чашка чая у Вырубовой»; предприимчивые кинодельцы — Дранков, Перский и другие — уже анонсировали фильмы с сенсационными названиями вроде «Тайна Германского посольства» и пр. Появились новые деньги, сразу же названные «керенками» в честь их создателя. Они были маленькие, имели жалкий вид и походили на этикетки от лекарств. Спекулянты стали сразу «зарабатывать» их целыми простынями.
Все чего‑то ждали. Не может быть, чтобы все так спокойно кончилось! Ведь это же революция!.. И — не страшная? Это было подозрительно.
— Ничего! Ещё увидите! Подождите! — говорили скептики. — Это ведь только цветочки! А ягодки‑то впереди!
Но на нас, богему, эта революция не повлияла никак. Как будто её и не было. Пооткрывались новые кафе, «Питерск» на Кузнецком и «Кафе поэтов» в Настасьинском. Жёлтых кофт мы уже не носили, но чудили, как всегда. Впрочем, это уже не производило особого впечатления. К нам уже привыкли и слушали нас спокойно, со снисходительными улыбочками. Скандал не может длиться бесконечно! Футуризм сделал своё дело, обратив на нас внимание общества, и больше он уже не был нужен ни нам, ни публике. Приезжал из Италии «отец футуризма» Маринетти, но большого успеха уже не имел. Постепенно мы стали отходить от футуризма. Каждый уже шёл своим путём. В итоге футуризм ничего и никого не создал. Маяковский? Но Маяковский был велик сам по себе, независимо ни от чего. Его цели и устремления были иными и совсем других масштабов.