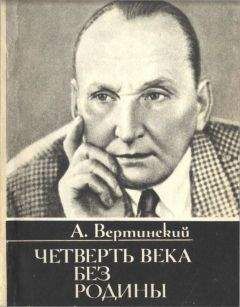Александр Вертинский - Дорогой длинною...
— А… здравствуйте, милейший! — равнодушно сказал он, не особенно, по-видимому, обрадовавшись встрече. И тут же начал меня журить: — Послушайте, дорогой… Ну как вам не совестно? На кого вы похожи? Ходите размалёванный, как клоун какой‑то. Занюханный, несчастный, смешной… Ведь вы же молодой человек! Подаёте кой-какие надежды, так сказать. Я вот слушал вас в театре у Арцыбушевой. Даже написать хотел. Ведь из вас может ещё выйти прекрасный куплетист, например, и прочее. Одумайтесь!
Я дал ему высказаться. Потом, набрав воздуху и сделав покорное лицо, сразу выпалил:
— Александр Осипович, одолжите мне рубль!
Волк поморщился. Пауза.
— Я, конечно, дам вам этот рубль, но… Это ведь вас не исправит, голубчик, — задумчиво сказал он. — Нате, возьмите. — И он полез в жилетный карман и вытащил оттуда серебряный рубль!
Урра!
Больше он мне был не нужен. Запрятав рубль в карман, я моментально обнаглел.
— А чего, вы, собственно, хотите от меня? — спросил я, глядя ему в глаза. — У меня ведь жизнь ещё только начинается. А так как вы к тому же не мой папаша, меня не содержите и обо мне не заботитесь. Не правда ли? Я пока ещё… — тут я на минутку задумался, — я волк, только не такой жирный, как вы! Я голодный волк-одиночка! Меня не кормят кроликами в зоологическом саду, как вас. Я сам добываю себе пищу!.. А вот если я захочу… — это уже было совсем по-мальчишески, — если захочу, я через три года буду знаменитостью! Хотите пари на три рубля?
Волк улыбнулся.
— Ну что ж, я только порадуюсь за вас!… — снисходительно сказал он, принимая пари.
Зажав рубль в кулаке, я помчался в кафе, где уже складывали скатерти перед закрытием, и заплатил по счёту, выкупив всю нашу уже потерявшую надежду компанию.
Знаменитостью же я стал не через три года, а через год. Однажды, проснувшись утром, я выяснил, что я уже несомненная знаменитость. Действительно, билеты в Петровском театре на мои выступления были раскуплены на всю неделю вперёд, получал я уже сто рублей в месяц. Нотные магазины на Петровке были завалены моими нотами: «Креольчик», «Жамэ», «Минуточка».
В витринах Аванцо на Кузнецком и в кафе у «Сиу» стояли мои портреты в костюме Пьеро. На сцену ежевечерне мне подавали корзины цветов, а у входа в театр меня ждала толпа поклонниц и поклонников. Газеты меня изощрённо крыли. А публика частью аплодировала, частью свистала. Но шла на мои гастроли лавой. Студенты и курсистки переписывали мои стихи, раскупали ноты и развозили их по всей Руси великой.
Куда же дальше? Я выиграл. Это было ясно. А Волка этого самого, увы, нигде не встречал. И вот ещё через год или два, когда я уже уехал за границу и, прибыв в Константинополь, поставил свои чемоданы в холле гостиницы «Пера-Палас», навстречу мне с одного из огромных кресел поднялась грузная фигура.
— Вы не узнаете меня? — спросил он меня.
— Нет.
— Я — Волк. Александр Осипович Волк. Помните? Я проиграл вам три рубля. Вот уже три года, как я ношу их в бумажнике, чтобы вручить вам. — И он подал мне новенькую зеленую трёшку.
«Санта мадонна… — подумал я. — И это он отдаёт долг мне теперь, когда, во-первых, деньги эти мне не нужны, а во-вторых, уже целая тысяча русских рублей ничего не стоит на турецкие деньги». Я только покачал головой.
О, если бы он дал мне «зелёненькую» тогда, на бульваре!
Вернёмся, впрочем, в Москву военных лет.
С фронта везли и везли новые эшелоны калек — безногих, безруких, слепых, изуродованных шрапнелью и немецкими разрывными пулями. Все школы, частные дома, где были большие залы, институты, гимназии, пустующие магазины — все было приспособлено под госпитали.
Трон шатался… Поддерживать его было некому. По стране ходили чудовищные слухи о похождениях Распутина, об измене генералов, занимавших командные должности, о гибели безоружных, полуголых солдат, о поставках гнилого товара армии, о взятках интендантов.
Страна дрожала как от озноба, сжигаемая внутренним огнём. Россию лихорадило. Но богемы это пока не касалось. Все продолжали жить своими интересами: издавали сборники стихов, грызлись между собой, эпатировали буржуа, писали заумные стихи, выставляли на выставках явно издевательские полотна и притворялись гениями. И сквозь весь этот вороний грай, крик, писк и вой, покрывая его своей мощью, грозно гремел голос Маяковского:
Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванную и тёплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию, вычитывать из столбцов газет?!
Ему свистели. В кабаре и кафе в него летели бутылки. Помню, как я ловил их и швырял обратно в публику, когда мы выступали как‑то в Петрограде в «Бродячей собаке», и как Борис Пронин — директор кабаре — вывел нас через чёрный ход на улицу, спасая от разъярённой толпы гостей.
О войне никто не хотел думать. В зале Политехнического музея в Москве самозабвенно пел свои «поэзы» изысканногалантерейный Игорь Северянин. Вспотевшие от волнения курсистки яростно аплодировали ему, единогласно избрав его «королём поэзии»…
Тиана, как больно! Как больно, Тиана!
Вложить вам билеты в лиловый конверт
И звать на помпезный поэзоконцерт!
Тиана, мне грустно! Мне больно, Тиана!
— Браво! — задыхаясь кричали курсистки. — Браво!..
А он стоял, гордый и надменный, в чёрном глухом сюртуке, с длинным лицом немецкого пастора, и милостиво кивал головой, даже не улыбаясь.
Каретка куртизанки в коричневую лошадь
По хвойному откосу спускается на пляж… —
распевал он, раскачиваясь в стихотворном ритме.
Чтоб ножки не промокли, их надо окалошить;
Блюстителем здоровья назначен юный паж.
Цилиндры солнцевеют, причёсанные лосско,
И дамьи туалеты — пригодны для витрин…
— А вы были когда‑нибудь на пляже, Игорь? — спрашивал я его.
— А что?..
— Да так! Кто же ходит на пляж в цилиндрах и «туалетах»? Туда приходят в купальных костюмах. А куртизанок в калошах вы когда‑нибудь видели?
Он даже не удостоил меня ответом.
К концу вечера, отдавая дань тяжёлому положению на фронте, он читал какие‑то беспомощно-патриотические стихи. Не помню их содержание, а голове засели лишь две заключительные строки:
Тогда, ваш нежный, ваш единственный,
Я поведу вас на Берлин!
И тем не менее успех у него был потрясающий.
Северянин был человек бедный, но тянулся он изо всех сил, изображая пресыщенного эстета и аристократа. Это очень вредило ему. Несомненно, он был талантлив: в его стихах много подлинного чувства, выдумки, темперамента, молодого напора и искренности. Но ему не хватало хорошего вкуса и чувства меры. А кроме того, его неудержимо влекло в тот замкнутый и пустой мир, который назывался «высшим светом».