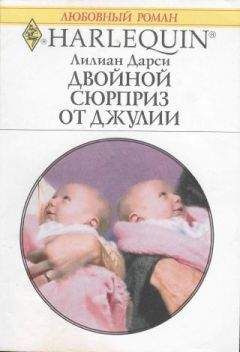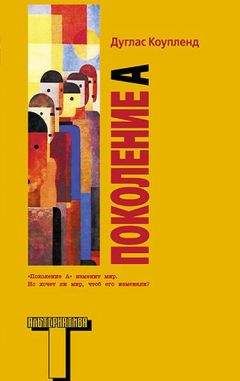Андрей Трубецкой - Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)
Василий вел себя в деревне очень неосторожно, хотя был неглупым парнем. Он открыто выражал свою ненависть к немцам, издевался над полицией. Все это говорилось не только в кругу военнопленных, но и на посиделках и кончилось для него плохо. Весной в Болотце приехали двое полицейских, вошли в дом к вдове, спросили, где Василий. Он был в огороде. Полицейские подошли к нему и без всяких слов застрелили. Так трагически и глупо кончилась его жизнь.
В домике садовника жило пять евреев, присланных из Любчи, местечка, расположенного километрах в двадцати на запад от Щорсов. Они заготавливали дрова для имения и занимались прочими хозяйственными делами. Я запомнил одного из них — рыжего Янкеля, давнего оптового торговца мясом, который имел дело еще до 1939 года с имением Щорсы, его помнил и дядя Поля. В начале февраля мы с Костей поехали в Любчу получать удостоверение личности. Вез нас Янкель. Документы мы получили быстро, и Янкель завел нас к своей семье, жившей в отведенном для евреев квартале — гетто. Оно не охранялось, и мы беспрепятственно вошли в дом. Теснота там была большая и бедность тоже. Поражали многочисленные детишки Янкеля, худые, бледные, с тонкими личиками, такие же рыжие, как их отец. Взрослые и дети обрадовались приезду Янкеля, ведь он им что-то привез. Все сразу затараторили по-своему. Страшно было смотреть на все это, особенно на детей. Неужели их всех уничтожат? За что? Кто и кому дал такое право?
Вскоре евреев, работавших в Щорсах, увезли. А еще через некоторое время была проведена такая же акция, как и в Вильно, по уничтожению самых малых и старых. На дядю Полю это произвело тяжелейшее впечатление. Такое же тяжелое впечатление произвел на него расстрел рабочего из мурованки. Приехали два или три жандарма из той же Любчи и расстреляли человека, что называется, без суда и следствия, прямо в графском парке. Вот тебе и Расе et libertate! Расстреляли за то, что он поморозил бурт не то со свеклой, не то с картошкой. Власти усмотрели в этом злой умысел (как похоже на наши, 30-х годов дела!).
Дядю Полю все то, что совершалось немцами в том же духе (например, расстрел евреев в Новогрудке летом 1942 года) «перевоспитывало». Вначале он ругал только большевиков и превозносил немцев, что в общем, было понятно: первые у него все отняли и самого чуть не уничтожили, вторые многое вернули. Но вот пошел процесс разочарования. Имение отобрали. Правда, дядя остался в нем жить, но каково жить в своем доме, в котором ты уже не хозяин, а само хозяйство ведется не так, как тебе хотелось бы. И даже могут расстрелять твоего бывшего работника, не спросив тебя ни о чем. Дядя Поля воспитывался на идеалах прошлого века, века гуманизма. Он был настоящий европеец, и зверства немцев не укладывались в его сознании. Дядя начинал понимать, что нацизм — страшная штука, как и большевизм. Помню его такую аллегорию: «Путешественник, блуждая по лесам Африки, увидел на поляне два львиных хвоста. Он долго думал, почему они здесь лежат и, наконец, догадался: встретились два льва, подрались и съели друг друга». Дядя заканчивал словами: «Вот было бы хорошо, чтобы эти два дерущихся льва тоже съели друг друга». Уже тогда у дяди Поли появилось ощущение, что жить здесь невмоготу, и он строил планы переезда к детям во Францию.
А пока люди в имении жили своей жизнью, жили слухами, благо газеты доходили от случая к случаю, жили новыми политическими анекдотами, которые каким-то образом сюда забредали. Люди переживали безвременье глухого захолустья. Однажды, сидя вечером с семьей Малишевского, мы проводили параллель между войной нынешней и войной 1812 года. Кто-то предложил (может быть, и я), что хорошо бы сейчас перечитать «Войну и мир». Предложили читать мне, или я сам вызвался — не помню. И вот по вечерам все сидели в комнате у Малишевских (дядя Поля, как всегда, не покидал своей комнаты), жена Малишевского чинила мужские сорочки, остальные тоже чем-то занимались, а я читал, читал с упоением, поражаясь гениальности картин, образов. Действительно, было много сходства между теми событиями и днем нынешним. Меня поразило сравнение города, отданного неприятелю, с девушкой, потерявшей честь. Именно такое впечатление осталось у меня от Пскова, когда я там был второй раз уже как пленный, а в городе хозяйничали немцы. При чтении иногда ком подступал к горлу и вселялась вера в нашу победу. «Война и мир» произвела впечатление и на слушателей. Правда, не все приходилось им по нутру. Характеристика Наполеона, данная Толстым, их коробила. Ведь в польском гимне есть слова: «Дал пример нам Бонапарте, как должны мы побеждать». Естественно, не понравилась им картина переправы французов через Неман, где Толстой зло высмеивал переправу польской кавалерии.
Сыновья Малишевского — Леопольд, Боб и Андрей — неплохо рисовали, делали они это и во время чтения. Это их занятие постепенно вылилось в издание иллюстрированного журнала. Началось с отдельных рисунков, таких, как упомянутый шарж «Тезка принимает Красную Армию». Потом была такая картинка: я сижу чуть ли не в кальсонах и держу в руках горящую лучину, а Катя гладит мне брюки. В то время лучина была самым распространенным светильником. Правда, лампы в имении были, были и коптилки, но на кухне жгли лучину. Текста в журнале не было, а только лаконичные подписи под рисунками или краткие диалоги действующих лиц. Были удачные рисунки, которые мне запомнились. Например, «Страшный сон панны Леонтины». Екатерина Николаевна — жена Малишевского — вздергивает на веревку, перекинутую через сук дерева, любимого песика панны таксу Тоби, панна Леонтина стоит рядом, протягивая к нему руки и проливая горькие слезы. Или «Встреча в коридоре» — голова панны Леонтины и ее рука с ночным горшком, высунувшаяся в коридор, и та же Екатерина Николаевна, нарисованная со спины, идущая с поднятой половой щеткой, и многое другое. Доставалось всем, но дядю Полю, как и политику, не задевали.
Гарда предложил учить Тезку и меня немецкому языку. Я немного поколебался и согласился — язык никогда не помешает. Одновременно с немецким я учил и польский — Гарда каждое слово объяснял и по-русски, и по-польски. Разговор в доме шел в основном по-польски, и я заметил, что уже почти все понимаю, а в один прекрасный день заговорил, к всеобщему удивлению, по-польски.
По вечерам перед сном я заходил посидеть к няне Анне Михайловне. Жили мы в соседних комнатах, выходивших в маленький коридорчик, ответвлявшийся от большого. Няня, толстая, в очках, с золотыми коронками во рту, сидела обычно на кровати, я присаживался на стул, комната освещалась огнем, горевшем в печке, и его отблески через щель приоткрытой дверцы плясали на стене и потолке. Няня много рассказывала о моей тетке, о моих незнакомых двоюродных сестрах и братьях, детях дяди Поли. Его самого она недолюбливала, ругала за то, что он «ополячился», что дает себя, как она полагала, водить за нос Малишевскому: «Вот он с ним все столбики переставляет (так она называла игру в шахматы), а сами все вывозят. Мне ж видно, а попробуй скажи», — жаловалась она мне. Ее рассказы позволили понять и обстановку в доме и все последующие события. Как я уже говорил, имение было расположено в Западной Белорусии, отошедшей после революции к Польше. Основное население — белорусы, но все командные посты занимали поляки, смотревшие на белорусов свысока. Этому способствовало и разделение религий: поляки были католиками, белорусы — православными. Многие крестьяне, с которыми я общался в Щорсах и Болотце, жаловались на национальный гнет. Управляющий Малишевский завел строгие порядки. Рассказывали, что за потраву посевов взыскивали очень строго, что в графский лес ходить за грибами и ягодами не разрешалось, а нарушителей наказывали и что для этого был целый штат лесников. Притеснение по линии национальной сочеталось с притеснением экономическим. (Одна из форм такого притеснения — осадники — легионеры Пилсудского. Им были выделены лучшие земли, и они жили хуторами среди местного населения как люди высшего свойства. Это была опора Польши на востоке страны. В 1939-40 годах их всех вывезли на восток в наши лагеря, как и всю польскую «верхушку» — интеллигенцию.) Правда, ради справедливости надо сказать, что тамошние крестьяне материально жили в большом достатке, совершенно несравнимо с тем, как жило наше колхозное крестьянство. Но так уж устроен человек, что ему всегда плохо.