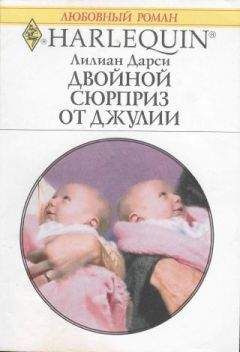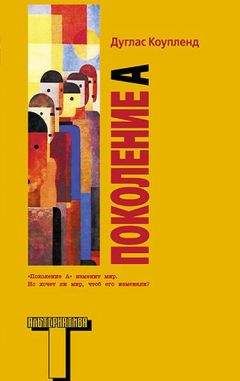Андрей Трубецкой - Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)
На другой день после завтрака и разговоров с дядей Полей я пошел прогуляться. Выйдя из флигеля, я сразу вперился в развалины дворца. Его уцелевшая высокая центральная часть была даже закрыта крышей, хотя местами белая жесть была содрана и выпирали крутые ребра стропил. В стенах глядели пустые окна. Остальная часть здания была без крыши, а флигель напротив имел только переднюю стену, да и то уже разбираемую, видно, втихомолку. На фасаде дворца была укреплена длинная широкая доска с надписью на латыни: «Pace et libertate» — «Мир и свобода». Большой двор замыкался металлической оградой с решетчатыми воротами (ночью мы взывали у этих ворот к сторожу), на которых был укреплен герб Хрептовичей — стрела, застрявшая в длинном усе; легенда говорит, что кто-то из Хрептовичей имел такие длинные усы, что это событие вполне могло иметь место, и как будто так оно и было. Справа и слева между флигелями и оградой были голые стены каких-то строений, стоявших друг против друга, но еще более раздвинутых. Это создавало хорошую перспективу для самого дворца. Строение, примыкавшее к разрушенному флигелю было складом зерна, а к жилому флигелю — одна из четырех сторон своеобразного каре, построек для дворни (дединец, как его называли), с собственным внутренним двором. Кроме жилых помещений, там были и конюшни. Все, в общем, продумано. В стене складов и дединца были сквозные, сводчатые проезды.
Я пересек двор и прошел мимо развалин флигеля, выйдя в довольно запущенный парк. Позже дядя Поля мне подробно о нем рассказывал, показывая редкие породы деревьев — плакучий ясень, пирамидальную липу и др. А сейчас меня поразил стоявший на поляне против дворца огромный дуб, которому было много сотен лет. Он как-то расселся в стороны, и из одного пня поднималось несколько растрескавшихся мощных стволов, и, чтобы они не развалились, их, видно, еще в давние времена стянули железными полосами.
Полосы эти глубоко въелись в тело дерева и местами заплыли наростами. В парке были запущенные дорожки и замерзшие пруды, на одном из которых, взломав лед, ловили рыбу. Тут же вертелся один из виленских спекулянтов. За парком к северо-востоку простирались луга, а за ними далекий синий лес. Окраина парка была прореженной, здесь заготавливали дрова для имения. Впоследствии я нередко подходил к лесорубам, рабочим имения. Часто пила вместе с деревом распиливала засевшую в нем пулю еще со времен Первой мировой войны. На северо-запад от парка через поле виднелись строения, обнесенные стеной с башенками по углам. Это был важный придаток имения — «мурованка» — от слова «мур» (стена) — все основные службы, хлев, конюшни, навесы для сельхозинвентаря, жилье.
К обеду я вернулся усталый. Спекулянты были недовольны: обещанные дядей Мишей «златые горы» не оправдались, они увозили немного рыбы, одного или двух баранов. Уезжал с ними и дядя Миша.
Странный он был человек. Жил все время во Франции, окончив там два ВУЗа по радиотехнике. Один из них был на юге Франции, где дядя помимо науки, увлекался боем быков. В 1938 году во Франции стали призывать на военную службу эмигрантов. Дядя Миша «внутренне воспротивился» (как он выражался) и стал подыскивать страну, приняв подданство которой, он освобождался от воинской повинности. Проглядывая список посольств, наткнулся на литовское. «Ба, Литва, провинция России, поеду туда!» К его удивлению, сам посол встретил дядю и его брата. Видно, посол был человеком сведущим и, когда ему доложили, что аудиенции просят князья Трубецкие, сообразил, что пришли потомки Гедимина. Подданство было устроено быстро, и дядя Миша переехал в Каунас (брат лишь изредка навещал его). В Литве его удивили две вещи: католичество, которое там процветало, и литовский язык. И то, и другое ему казалось странным и даже лишним в бывшей провинции Российской империи. На каунасском горизонте дядя был фигурой крупной. За ним, как тень, ходил соглядатай, почти не скрывавший своих обязанностей. Когда приезжал брат дяди, соглядатаев становилось двое. По словам дяди, власти побаивались чуть ли не переворота: два Гедиминовича, да еще из Парижа. Не знаю, насколько все это было именно так, но эти рассказы дяди Миши помню хорошо. Почему дядя остался в Каунасе, когда Литва стала советской, не скажу, не знаю. Он стал работать на радиофабрике, попал в ударники, и местная газета написала, что в таком-то цехе «социалистически визжит пила — это работает сознательный товарищ Трубецкаускас». Дядя говорил, что эта заметка его сгубила: фамилией заинтересовались, кому положено было заинтересоваться. Думаю, что не в заметке дело. Просто пришло такое время. Дядя Миша «сел» и сразу начал путать следствие, чтобы выиграть время, так как понимал, что война не за горами, и что немцы наших попрут. Он выдавал себя за чистокровного литовца, отрицал родство с моим отцом, требовал дополнительных выяснений. Сидел довольно долго и в камере выучил литовский язык, чем еще более путал следствие. Рассказывал, но как-то беззлобно, что его били, подвешивали за одну руку, удивлял его мат женщины-следователя, многие специфические и особенно яркие выражения которой он запомнил. Дальше события у него развивались, как у дяди Поли. Началась война. Охрана разбежалась. Правда, разбегаясь, успели расстрелять заключенных в нескольких камерах. Все это произошло за день до прихода немцев, чему способствовала вооружившаяся часть местного населения. В следственном корпусе дядя нашел свое дело, из которого взял на память фотографию — фас и профиль — снятую, как он говорил, после побоев. Тип получился, действительно, преступный.
Немцы заигрывали с литовцами и давали им большую волю, а литовцы теснили все русское, в том числе, и православную церковь. Как глубоко верующий человек, которому были близки интересы православной церкви в Литве, Михаил Григорьевич взялся представлять ее интересы перед властями. Вот, что представляло собой положение дяди к моменту, когда он вытащил меня из плена.
Итак, я стал жить в имении. Все мне казалось очень странным. Был плен и перспектива медленного а, возможно, и быстрого умирания в лагере в обстановке голода, унижения, бесправия, и вот теперь вольготная сытая жизнь под крылышком помещика, графа, пользовавшегося уважением окружающих и властей, жизнь, где бояться нечего, где можно делать, что хочешь. Так, по крайней мере, я думал вначале. Действительно, первое время я ел, спал, гулял. Да это мне и было необходимо. Потом, когда я оправился и окреп, дядя Поля говорил, что вид у меня был такой, что у женщин я не мог возбудить никакого другого чувства, кроме жалости.
Жившие в имении относились ко мне с большим уважением: племянник всеми почитаемого графа, да еще сам князь, да из немецкого плена, да после тяжелого ранения. Но чувствовал я себя в этой обстановке не совсем в своей — тарелке. Ведь всю жизнь из Меня выбивали чувство принадлежности к дворянскому сословию. Постепенно вырабатывалось ощущение, что это несмываемое, опасное клеймо, как черная кожа в давней Америке. Такое происхождение сулило лишь беды, унижения и уж, во всяком случае, большие неприятности. В сознании так и осталось, что родители «лишенцы», что меня не приняли в восьмой класс «ввиду социально чуждого происхождения» (а я так хотел учиться! И отцу стоило многих и долгих хлопот, чтобы все же приняли), а 1937 год? Несмотря на все это, я не отряхивал прах земля родной со своих ног, и люди из моего ближайшего окружения, вероятно, стали это постепенно чувствовать. Это сказалось и на моих тогдашних знакомствах.