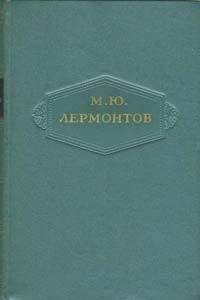Анна Ахматова - Серебряная ива
Примерно с середины двадцатых годов я начала очень усердно и с большим интересом заниматься архитектурой старого Петербурга и изучением жизни и творчества Пушкина. Результатом моих пушкинских штудий были три работы – о «Золотом петушке», об «Адольфе» Бенжамена Констана и о «Каменном госте»…
Работы «Александрина», «Пушкин и Невское взморье», «Пушкин в 1828 году», которыми я занимаюсь почти двадцать последних лет, по-видимому, войдут в книгу «Гибель Пушкина».
Анна Ахматова. «Коротко о себе»* * *И было сердцу ничего не надо,
Когда пила я этот жгучий зной…
«Онегина» воздушная громада,
Как облако, стояла надо мной.
…Пушкина знала она всего наизусть – и так зорко изучала его и всю литературу о нем, что сделала несколько немаловажных открытий в области научного постижения его жизни и творчества. Пушкин был ей родственно близок – как суровый учитель и друг.
Историю России она изучала по первоисточникам, как профессиональный историк, и когда говорила, например, о протопопе Аввакуме, о стрелецких женках, о том или другом декабристе, о Нессельроде или Леонтии Дубельте, – казалось, что она знала их лично. Этим она живо напоминала мне Юрия Тынянова и академика Тарле.
Корней Чуковский.Из «Воспоминаний об Анне Ахматовой»* * *…Характерная черта: о Пушкине, о Данте или о любом гении, большом таланте АА всегда говорит так, с такими интонациями, словечками, уменьшительными именами, как будто тот, о ком она говорит, – ее хороший знакомый, с ним она только что разговаривала, вот сейчас он вышел в другую комнату, через минуту войдет опять… Словно нет пространств и веков, словно они члены ее семьи. Какая-нибудь строчка, например, Данте – восхитит АА: «До чего умен… старик!» – или: «Молодец Пушняк!»
Павел Лукницкий.Из книги
«Встречи с Анной Ахматовой»
С пушкинскими штудиями, которые накладывались на ее собственные воспоминания о Царском Селе, связан и замысел поэмы «Русский Трианон», над которой Ахматова начала работать в 1925 году.
ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ПОЭМА«РУССКИЙ ТРИАНОН»1В тени елизаветинских боскетов
Гуляют пушкинских красавиц внучки,
Все в скромных канотье, в тугих корсетах,
И держат зонтик сморщенные ручки.
Мопс на цепочке, в сумочке драже,
И компаньонка с Жип или Бурже.
Как я люблю пологий склон зимы,
Ее огни, и мраки, и истому,
Сухого снега круглые холмы
И чувство, что вовек не будешь дома.
Черна вдали рождественская ель,
Кричит ворона, кончилась метель.
И рушилась твердыня Эрзерума,
Кровь заливала горло Дарданелл,
Но в этом парке не слыхали шума,
Хор за обедней так прекрасно пел;
Но в этом парке мрачно и угрюмо
Сияет месяц, снег алмазно бел.
Прикинувшись солдаткой, выло горе,
Как конь, вставал дредноут на дыбы,
И ледяные пенные столбы
Взбешенное выбрасывало море —
До звезд нетленных – из груди своей,
И не считали умерших людей.
. . . .
На Белой башне дремлет пулемет,
Вокруг дворца – гусарские разъезды,
Внимательные северные звезды
(Совсем не те, что будут через год),
Прищурившись, глядят в окно Лицея,
Где тень Его над томом Апулея.
О, знал ли он, любимец двух столетий,
Как страшно третьим будет встречен он.
Мне суждено запомнить этот сон,
Как помнят мать, осиротевши, дети…
Иланг-илангом весь пропах вокзал,
Не тот последний, что сгорит когда-то.
А самый первый, главный – Белый Зал
В нем танцевальный убран был богато,
Но в зале том никто не танцевал.
. . . .
И Гришка сам – распутник… Горе! горе!
Служил обедню в Федровском соборе.
C вокзала к паркам легкие кареты,
Как с похорон торжественных, спешат,
Там дамы! – в сарафанчиках одеты,
И с английским акцентом говорят.
Одна из них!.. Как разглашать секреты,
Мне этого, наверно, не простят,
Попала в вавилонские блудницы,
А тезка мне и лучший друг царицы.
Все занялись военной суетою,
И от пожаров сделалось светло,
И только юг был залит темнотою.
На мой вопрос с священной простотою
Сказал сосед: «Там Царское Село.
Оно вчера, как свечка, догорело».
И спрашивать я больше не посмела.
. . . .
И парк безлюден, как сибирский лес.
Ты прости мне, что я плохо правлю,
Плохо правлю, да светло живу,
Память в песнях о себе оставлю,
И тебе приснилась наяву.
Ты прости, меня еще не зная,[32]
Что навеки с именем моим,
Как с огнем веселым едкий дым,
Сочеталась клевета глухая.
И клялись они Серпом и Молотом
Перед твоим страдальческим концом:
«За предательство мы платим золотом,
А за песни платим мы свинцом».
ПРО СТИХИ НАРБУТА[33]
Н. Х<<арджиеву>>
Это – выжимки бессонниц,
Это – свеч кривых нагар,
Это – сотен белых звонниц
Первый утренний удар…
Это – теплый подоконник
Под черниговской луной,
Это – пчелы, это – донник,
Это пыль, и мрак, и зной.
…Анну Андреевну Ахматову я знал с 1912 года. Тоненькая, стройная, похожая на робкую пятнадцатилетнюю девочку, она ни на шаг не отходила от мужа, молодого поэта Н.С. Гумилева. То было время ее первых стихов и необыкновенных, неожиданно шумных триумфов. Прошло два-три года, и в ее глазах, и в осанке, и в ее обращении с людьми наметилась одна главнейшая черта ее личности: величавость. Не спесивость, не надменность, не заносчивость, а именно величавость. За все полвека, что мы были знакомы, я не помню у нее на лице ни одной просительной, заискивающей, мелкой или жалкой улыбки. При взгляде на нее мне всегда вспоминалось некрасовское: «Есть женщины в русских селеньях…»
Даже в позднейшие годы, в очереди за керосином, селедками, хлебом, даже в переполненном жестком вагоне, даже в ташкентском трамвае, даже в больничной палате, набитой десятком больных, всякий, не знавший ее, чувствовал ее «спокойную важность» и относился к ней с особым уважением, хотя держалась она со всеми очень просто и дружественно, на равной ноге.