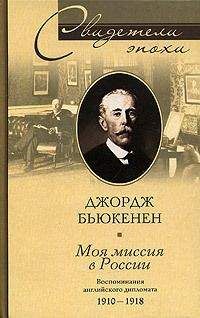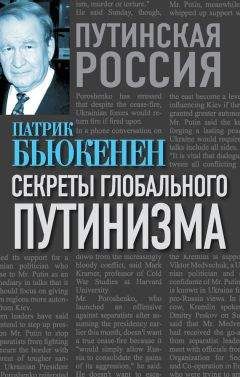Джордж Бьюкенен - Мемуары дипломата
Мои личные усилия, конечно, были направлены к возможному примирению противоречивых взглядов и интересов обоих правительств. Но этой моей задаче мешало отсутствие какой-либо солидарности или коллективной ответственности среди членов русского кабинета. Категорические заверения, данные мне председателем совета министров относительно отозвания русских войск, были, как уже указано, не подтверждены его коллегами. Причина такого необычного образа действий сделалась для меня ясна только несколько месяцев спустя, когда парламенту должна была быть представлена синяя книга о Персии. Передавая Сазонову, согласно дипломатическому обычаю, корректуру копий моих депеш, я постарался смягчить рапорты о моих разговорах с Коковцевым, чтобы не вызвать впечатления, что последний нарушил свое обещание. Сазонов, который был вполне осведомлен об этих разговорах, сразу стал упрекать меня за обращение к председателю совета министров по вопросу, касающемуся только министерства иностранных дел.
Ввиду того, что ответственность перед императором за направление русской иностранной политики несет министр или, в его отсутствии, управляющий министерством иностранных дел, Сазонов протестовал против опубликования в синей книге разговоров с другим министром о делах, к которым этот министр не имел никакого отношения. Я сделал ошибку, - заявил он, обратившись по персидскому вопросу к председателю совета, а последний превысил свою власть, дав мне обещание, которое он не имел права давать. Я заметил на это, что русский посланник в Лондоне часто обращается по иностранным делам к первому министру, и что, когда дело шло о вопросе, который мог сильно отразиться на отношениях наших двух стран, было вполне естественно, что я обратился к председателю совета, тем более, что управляющий министерством иностранных дел, не будучи членом кабинета, не мог говорить так авторитетно, как глава правительства. Хотя Сазонов никогда не протестовал против такого образа действий, когда во главе правительства стоял зять Столыпина, он ответил однако, что Россия - не парламентская страна, подобно Великобритании, и что председатель совета министров не имеет права контроля над иностранной политикой России.
Среди других вопросов, с которыми мне пришлось иметь дело в этом же году, наиболее важным был вопрос о требовании Россией права расширить влияние своей морской юрисдикции с трех до двенадцати миль. В январе и в марте в Думу были внесены законы, запрещающие иностранцам ловить рыбу в пределах двенадцати миль приморской полосы Архангельской губ. и Приамурья, а так как это требование противоречило обычной практике и общепринятым международным законам, мне было поручено заявить протест. В ответе на этот протест русское правительство заявило, что вопрос о протяжении территориальных вод государства определяется или международными договорами, или внутренними законами в отношении обычаев рыболовства, уголовного или гражданского права, в соответствии с различными интересами, выступающими в этих областях, а так как Россия не связана никакими договорами, протяжение ее территориальных вод с точки зрения международных законов определяется единственно дальнобойностью ее прибрежных орудий - в данном случае двенадцатью милями. Россия предложила, чтоб вопрос был представлен на рассмотрение третьей мирной конференции, которая должна была собраться в Гааге в 1915 году. Соглашаясь в принципе, чтоб вопрос о пределах, внутри которых государству принадлежит юрисдикция в водах, прилегающих к ее берегам, был разрешен на международной конференции, мы поставили условием, чтоб до того, как такая конференция вынесет то или иное решение, русское правительство не останавливало английских судов вне трехверстной полосы без предварительного уговора с нами. В разговоре, который я имел с ним по этому поводу, Столыпин объявил мне, что этого условия русское правительство принять не может, так как, по мнению русских юристов, в международном праве нет такого закона, который бы запрещал России поступить так, как она предполагает. Поэтому он может обещать только постараться отложить рассмотрение этих законов в Думе до осенней сессии.
Аргументы, выставленные русским правительством для поддержки своего требования, были опровергнуты в ряде нот, в одной из которых ему было указано, что оно само, в официальной ноте на имя лорда А. Лофтуса, в октябре 1874 года, признало, что три мили являются достаточной границей морской юрисдикции государства, и заявило, что вопрос о такой юрисдикции "принадлежит к числу тех, которые желательно было бы установить с общего согласия всех государств в интересах сохранения добрых международных отношений".
В июне закон о Приамурье прошел как в Думе, так и в Государственном Совете. Япония немедленно объявила протест против его применения. По отношению к Архангельской губернии закон еще не рассматривался. Отказываясь взять его обратно, правительство не сделало ничего, чтоб ускорить его движение, а так как большинство депутатов не очень склонялось к тому, чтобы принять закон, рассчитанный на вызывание трений с Англией, он постепенно умер естественной смертью.
Во время одного из моих разговоров с председателем совета министров я, после обсуждения русского требования о границах ее морской юрисдикции, воспользовался случаем и попросил ускорить решение еще двух других неразрешенных вопросов. Г. Столыпин воскликнул: "Вы сегодня не в ударе, г-н посланник! Вы предлагаете мне уже третий неприятный вопрос!" Г. Столыпин был прав. Времена были тревожные, и в этот первый год моего пребывания в Петербурге существовал целый ряд неприятных вопросов, о которых мне приходилось делать представления русскому правительству. Один из них, как типичный, заслуживает особенного упоминания.
В начале апреля русская печать опубликовала отчет о процессе бывшего чиновника морского министерства, обвиняемого в продаже секретной книги сигналов капитану Кальторпу, морскому атташе при английском посольстве, и в сообщении позднее новой книги сигналов вместе с другими секретными документами его преемнику, капитану Обри Смиту. На предварительном следствии этот человек, Поваже, признался, что он хотел продать книгу сигналов капитану Кальторпу, но тот отказался от этого. Он поклялся, что он никогда в жизни не видел капитана Смита. Суд признал его виновным по самым строгим законам, но за давностью преступления он был приговорен только к 12 годам каторжных работ.
Я немедленно заявил протест. Я указал, что судебные власти сделали ошибку, не сообщив в посольство, как полагалось, о разборе дела, в котором предъявлялись серьезные обвинения британскому морскому атташе. Дав честное слово, что во всей истории не было ни крупицы правды, я потребовал от управляющего министерством иностранных дел опубликования официального документа с отрицанием необоснованных обвинений, сделанных некоторыми из свидетелей во время следствия. Согласившись, что судебные власти должны были дать знать посольству о процессе, и обещавши сообщить императору все, что я сказал, г-н Нератов, вместо опубликования требуемого документа от имени русского правительства, ограничился сообщением в печати заявления, что британский посол самым категорическим образом отрицает участие капитана Обри Смита в каких бы то ни было переговорах с Поваже. Император, принимая на следующий день в аудиенции полковника Виндгэма, нашего военного атташе, сказал, что он вполне удовлетворен моим заявлением и считает инцидент исчерпанным. Несмотря на повторные представления русскому правительству от имени британского, несмотря на то, что в оба раза, когда Поваже, как утверждало обвинение, посещал его на дому, капитана Смита не было в Петербурге, что мы могли доказать, эти слова императора были единственным удовлетворением, полученным им.