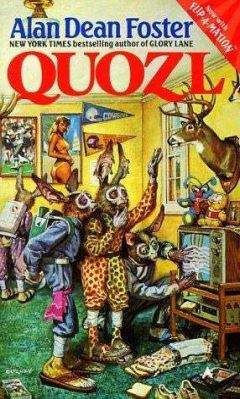Труди Биргер - Завтра не наступит никогда (на завтрашнем пожарище)
Именно в этот момент меня проносили мимо этого места. Все они смотрели на мои носилки, но мать меня не узнавала. Да и как могла узнать? В последний раз она видела меня еле живой, голой, грязной, в куче дистрофиков, приговоренных к немедленной смерти в пламени крематория; а теперь перед ней была чистенькая, раскинувшаяся на носилках девушка, одетая в красную ночную рубашку. Нет, она никак не могла быть ее дочерью, у нее просто не хватило воображения это представить. Значит, у нее начались галлюцинации. Ей же только что говорили, что из крематория не возвращаются. И все-таки это была я. Я закричала что было сил:
— Мама! Мама!
Санитары остановились. Мама услышала и закричала в ответ:
— Труди! Это ты? Ты живая?
Это было бесподобно. Случилось то, о чем она даже не могла мечтать: я вернулась к ней, я была жива. Она видела меня и не могла поверить. Я поспешила ей все объяснить:
— Жива, жива! Меня не убили!
Мама бросилась ко мне сквозь толпу. Я потянулась навстречу, и наши руки соединились. Наши руки и наши сердца. Капо, который должен был отыскать маму, ткнул в нее пальцем и приказал:
— Эту тоже в госпиталь!
И мама пошла за моими носилками.
На пороге госпиталя капо передал приказ коменданта лагеря: «Немедленно произвести операцию на ноге». Медперсонал госпиталя состоял из литовских евреев. Доктором, который занялся моей раной, была женщина по фамилии Каплан. В Ковно она считалась одним из лучших хирургов и знала моего дядю Якоба и родителей моей мамы. Она нас узнала.
Каплан осмотрела меня и сказала, что такую ногу лучше, конечно, ампутировать, но она попытается спасти ее. А я больше всего боялась умереть от заражения крови и потому не понимала, зачем нужно с этой ногой возиться?
Она сказала, что сделает все, что сможет, но лагерный госпиталь, это было одно название: здесь была полная антисанитария, он был переполнен больными, не хватало ни инструментов, ни медикаментов, и даже в этих условиях евреям и неевреям предлагалось разное лечение.
Анестезия мне не полагалась. Я получила какое-то средство, которое только слегка заглушало боль. Доктор Каплан резала меня практически по живому, и от каждого прикосновения скальпеля я извивалась от боли. Мы обе стискивали зубы — я, чтобы не кричать, а она от того, что причиняла мне нечеловеческие страдания. В конце концов ей удалось вычистить и продезинфицировать мою огромную рану со всей возможной тщательностью, и Каплан распорядилась отправить меня в палату.
На следующий день я пришла в себя и смогла разглядеть то, что меня окружало. Все пациенты госпиталя спали на нарах обычно по четверо, но нам повезло — на нас лежал отблеск благосклонности коменданта лагеря — нам позволили занимать целые нары только вдвоем.
Разумеется, ни о каких простынях не было и речи, были только старые замызганные солдатские одеяла. Нас кормили, давали все тот же жиденький супчик из картофельной кожуры и кусок скверного хлеба, но зато нам не надо было работать. В трудовом лагере у меня не было сил с кем-то общаться, кроме матери, а здесь я подружилась с некоторыми из пациентов.
Спустя несколько дней после того как нас с мамой поместили в госпиталь, к нам палату вошел комендант лагеря и строго приказал мне подняться:
— Марш в контору! — сказал он и добавил, обращаясь к маме: — И тебе нечего валяться! Возьми швабру и вымой пол в коридоре!
Когда мама выбралась из-под одеяла и он увидел, что на ней вместо одежды грязные лохмотья, то тут же отдал приказ капо подобрать маме и мне рабочую одежду.
— Я не смогу дойти в контору, — сказала я. Действительно, за все время в госпитале я вставала всего несколько раз, чтобы сходить в уборную. Даже с помощью матери это мне давалось с огромным трудом — каждый шаг отзывался невыносимой болью. И потом, я не понимала, зачем мне нужно вставать.
— Вон из постели! — закричал комендант.
Мне ничего не оставалось, как повиноваться, я встала. Он увидел, что у меня всего один деревянный башмак, приказал капо выдать мне еще и ботинки и удалился со свитой.
Очень скоро капо принес нам с матерью вполне приличные платья и пару поношенных армейских ботинок. Мы немедленно переоделись. Натягивать тяжелые, жесткие башмаки на мою поврежденную ногу было для меня сущей пыткой, но я понимала, что должна это сделать.
Комендант снова ворвался в палату и заорал мне:
— Почему ты еще не в конторе?
— Я не могу идти…
— Беги бегом!
Против этого возразить было нечего. Я похромала в контору госпиталя так быстро, как могла, держась за стенку. Комендант шел следом за мной. Он усадил меня за стол и вручил список фамилий:
— Перепиши это. Если кто-нибудь спросит, что ты тут делаешь, отвечай: «Конторская работа».
В списке были имена умерших в этот день. Он был бесконечным. Сами умершие были сложены под окном в гигантский штабель, среди трупов я видела своих новых друзей, с которыми познакомилась здесь, в лагере.
Вскоре я поняла, почему комендант лагеря выгнал нас с мамой из палаты и заставил работать. Делегация высокопоставленных офицеров СС прибыла в Штуттгоф с инспекцией. В считанные минуты офицеры оказались в госпитале; глаза их не предвещали ничего хорошего. О них говорили, как о самых свирепых убийцах. Они были одеты в безупречные мундиры, пестревшие боевыми нашивками и медалями. На поясе у каждого зловеще висел кинжал, а в руках была офицерская трость. Черные кожаные ремни и высокие сапоги сверкали.
В госпитале для своего удовольствия эти господа офицеры провели молниеносную селекцию. Они заставляли больных женщин раздеваться и обнаженными прохаживаться перед ними, подобно моделям на подиуме дома модной одежды. Они внимательно осматривали их, отпуская мерзкие шуточки и решая, которая из них еще сгодится для работы или сексуальных забав. Им нравилось видеть женскую униженность. Всех, кто на их вкус оказывался слишком худенькой или хворенькой, отбраковывали: «В крематорий»-цедили они сквозь зубы.
Моя мать отскребала пол в то время, пока офицеры СС забавлялись в палатах, и ее сердце обливалось кровью: после этой селекции многим из них пришлось отправиться прямо в газовые камеры.
Они видели мою маму в коридоре с ведром и шваброй, отмывавшую пол так, как если бы это было ее повседневной работой (а у нее было достаточно сноровки, приобретенной в Ковенском военном госпитале), и не обратили на нее никакого внимания. Так же они отнеслись и ко мне, конторской мыши. Я не могла сама видеть того, что происходило в палатах; мне об этом рассказали позднее.
Когда эсэсовцы ушли, нам приказали вернуться в палату и отобрали рабочую одежду.