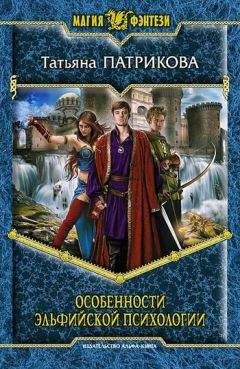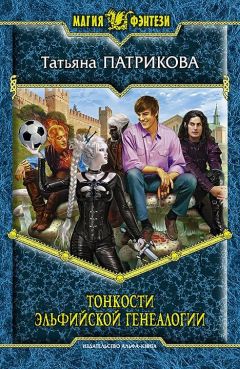Евгений Витковский - На память о русском Китае
Это то немногое, что можно узнать о последних годах мирной жизни поэта недалеко от Копакабаны, о жизни поэта-эмигранта в Бразилии в русской, лишь слегка латинизированной среде, — до переезда в Дом Престарелых Артистов в далеком (хотя зеленом) предместье города. Но дальше, буквально на той же странице, мы находим рассказ все о том же, о «самом главном» для поэта (что, как он полагал из русских поэтов его в первую очередь и выделяло). Возник приводимый ниже абзац потому, что в своем письме и высказался более чем положительно по поводу написанного еще в середине 30-х годов стихотворении Перелешина «К Люсьену Летинуа». Мне не хотелось объяснять ему, что вполне спортивный исторический Люсьен (умерший от тифа) имел мало общего с возникшим у Перелешина образом. Но стихи-то вышли прекрасные, что я прямо и написал. Рассказ о «харбинском скандале» вокруг этого стихотворения достоин быть процитирован: поэт, кажется, решил, что я понял его ориентацию с самого начало (это было вовсе не так, но… выдумка тут, пожалуй, важней истины, ибо именно она стала достоянием искусства.
«Мою „левшизну“ многие в Китае понимали (Ачаир часа полтора читал мне лекцию о том, что, совокупляясь с женщиной, можно молиться, а если вместо женщины юноша, то… и т. д.: по поводу моего „К Люсьену Летинуа“, которое по недосмотру Кауфмана проскочило в „Рубеже“, после чего Евгений Самойлович обвинял в этом Рокотова, а Рокотов возражал, что весь материал что весь материал для очередного номера представил Е. С. и получил его, как утвержденный). Уже в Шанхае Н. В. Петерец говорил мне, что „К Люсьену“ — едва ли не лучшее стихотворение, кем-либо написанное на Дальнем Востоке. Шанхайские „островитяне“ вообще были умнее, чем харбинцы, и смотрели на вещи шире: меня всюду приглашали вместе с Тан Дун-тянем (о котором прочтете в одной из последних песен „Поэмы без предмета“». Но об этом в письмах ко мне — едва ли не сотни абзацев, а вот про пирог с творогом (какой-то совершенно василье-розановский) и про «Синзано» (как читатель понял, у нас этот вермут называют «Чинзано») — считанные строки. Поэт — все-таки живой человек, не сексом насущным и даже не только поэзией он живет, нужен и кусок пирога, да только «сандуиш американо», в девичестве гамбургер, в Рио-де-Жанейро и в московском Макдональдсе — совсем не одно и то же. Да и помнить о том — плюс сорок за окном у поэта или минус сорок (было почти такое в Москве на моей памяти, было) — тоже надо. Кто привык к одной температуре, в другой жить не может, даже вороны и галки в большинстве стран — разные. А ведь поэзия строится из всего этого материала.
Кто знает почему, — не из-за искреннего ли сонета, посвященного Александру Солженицыну? — но в том же году четыре сонета Перелешина (в № XVI) напечатал и «Континент», со старой эмиграцией никогда особо не церемонившийся. Эта публикация поэта, которому почти негде было печататься, конечно, радовала, но зато брат стал все чаще отравлять жизнь и собственной умиравшей матери, и — само собой — жившему с ней старшему брату. Жизнь, конечно, посмеялась над ним самим: его водохранилища высохли в Бразилии как голые сковородки, всего десять лет прошло — а старшего брата уже вовсю печатали в СССР (еще не в России, но так для брата было даже обиднее), да и от самого Виктора Салатко осталось упоминание в справочниках — справка о том, чей он брат, да несколько юношеских, написанных по-русски стихотворений, попавших в 2001 году в московскую антологию «Русская поэзия Китая» (еще при жизни самого Виктора Салатко). Но в августе 1978 года он был еще ого-го. Этим временем датировано письмо Валерия ко мне, из которого извлекаю несколько фраз:
«Позавчера был у нас мой брат — и устроил настоящий бенефис. Опять издевался над тем, что я „ничего не делаю“ (что пишу по-русски — это не только не в счет, но даже в минус), что должен платить все налоги по квартире и даже страховку (на что я резонно ответил, что в случае пожара страховку получит он, а я просто потеряю и книги, и рукописи, и одежду, и марки). Короче говоря, не только выживает маму и меня из квартиры, но и вообще со света сживает (главные доводы исходят, несомненно, от Лидии <жена Виктора Салатко, однажды, — помнится, летом 1972 года — даже завалившаяся ко мне в Москве в гости без звонка — по счастью, я догадался „не сразу вспомнить“, что у Перелешина еще и родственники какие-то есть — Е.В.>). А вчера поздно вечером (около десяти) забежал милый Умберто. Заставил меня перевести ему прозой напечатанные в „Континенте“ сонеты, восхитился их тонким рисунком — и обещал узнать о существующих в Рио-де-Жанейро убежищах для престарелых. Я готов пойти на все, лишь бы избавиться от милого брата, от его насмешек, от его ненависти к России, ко всему русскому, к маме и ко мне. <…> Сам он отупел (от „дринков“ и прочего) и оскотинился». Можно бы процитировать и вчетверо больше, да только надо ли? Лучше приведу фразу из письма куда более позднего, от 28 августа 1989 года: «На брата, который обычно меня презирает, как горького неудачника, напечатание стихов <в СССР — Е. В.> в двух журналах с портретом произвело впечатление». Только и можно сделать для бедного Виктора Салатко… что простить его. Уж за одно то, что, когда осенью 1989 года понадобилось оплатить дорогую операцию по удалению катаракт, образовавшихся у старшего брата на обоих глазах, то, как писал Перелешин 3 ноября 1989 года, «Зрение важнее денег. И брат сразу выписал довольно веский чек на эту операцию». Все-таки нет в мире ничего совсем черного, а есть ли совсем белое — лишь Господь ведает.
Надо заметить, что меня всегда занимало — почему Перелешин пишет «Ариэль» через «э»? У меня и рука-то с трудом такое выводит. Но Перелешин дал разъяснение (7 октября 1978 года): «„Ариэль“ или „Ариель“? Правильнее всего — „Ариил“ по аналогии с именами архангелов, Самуила, Мисаила, Гамалиила. Но заглавие моей книги взято не из Библии, а скорее из астрономии (один из спутников Урана, кажется) <открывший в 1851 году этот спутник астроном У. Лассел взял имя из поэмы английского поэта А. Поупа „Похищение локона“ — Е. В.> и еще больше — из „Бури“ Шекспира, которую я читал по-русски и затем по-английски. Как было написано по-русски, не помню». Короче, из подсознания у Перелешина вновь выплыл «Уран», а с ним, боюсь, и забытое ныне слово «уранизм», благородный термин викторианских времен, извлеченный из диалогов Платона. Но это мои догадки. Как обозвали, так и приходиться принять. Перелешин псевдоним себе тоже не сам придумал.
Писем в 1979 году, а тем паче в 1980-м становилось все меньше: у Перелешина рушилась жизнь: брат переселил их с матерью на свою «дачу» довольно далеко от города, в местечко под названием Мурѝ, европейской осенью следующего года Евгения Александровна Сентянина умерла, и ни о чем, кроме ее смерти, Валерий писать не мог (да и жизнь в деревне без единого русского голоса была ему тяжела. В СССР становилось тоже не сладко: последовательно и я, и Саша Богословский потеряли связи во всех трех посольствах, соглашавшихся помогать нам дипломатической почтой. Оставался «открытый путь», но чем ближе была смерть Брежнева и чем страшнее поднимались над страной фарфоровые челюсти чудовищного Андропова, по сути прекратившего выезд из страны даже по израильскому каналу с первых дней своего воцарения в 1982 году — тем осторожней нужно было себя вести, чтобы не угодить в быстро растущий ГУЛАГ. Попала туда моя приятельница, поэтесса Ирина Ратушинская. Попал и мой напарник, Саша Богословский. Но меня воспитывали зеки: «Придурись и вались в припадок!» Я и валился. Только, к сожалению, припадок был самым настоящим: вальпролиевая кислота, известная еще с 1880-х годов, была в виде множества препаратов испробована на людях более чем через девяносто лет, а широко стала применяться лишь еще лет через двадцать, до России же дошла как вполне рядовое и эффективное противоэпилептическое средство лишь на грани миллениума; от эпилепсии эффективно помогла мне именно она, а в 1980-е — только и оставалось, что валяться в припадках каждые две недели, с трудом добывая не очень-то надежные, но хотя бы доступные европейские препараты. До литературы ли тут? Тут скорей к священнику идти надо. Я и ходил — в чудесную церковь довольно далеко от Москвы, где служил отец Александр Мень. Ходил, пока его не убили. Теперь я хожу в другую церковь, в огромный храм на Малой Грузинской. Надеюсь, Валерий не осудил бы меня.