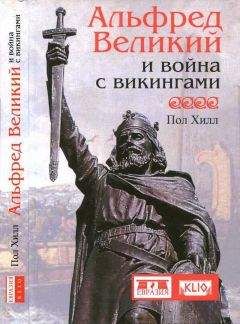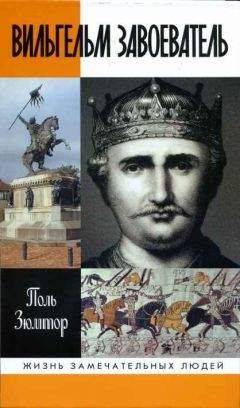Альфред Перле - Мой друг Генри Миллер
Прошу прощения за «etc., etc.», но окончание предложения в данном случае придется опустить в силу его нецензурности. Подведем черту следующим абзацем:
Мы сошлись под покровом ночи, каждый со своими полками, и с противоположных сторон приступили к штурму цитадели. В нашей кровавой бойне не было ни победителей, ни побежденных, мы никого не молили о пощаде и сами никого не щадили. Мы сошлись, утопая в крови: кровавое, мутное примирение в ночи при угасших звездах, всех, кроме одной — неподвижной черной звезды, скальпом зависшей над дырой в потолке. Бывая изрядно накокаиненной, она выблевывала это из себя, как пифия, — все, что происходило с ней в течение дня, вчера, позавчера, позапрошлым годом — все вплоть до дня ее появления на свет. И в этом не было ни слова правды, ни единой правдивой детали! Она не замолкала ни на миг, потому что замолчи она, и вакуум, образовавшийся при взлете ее фантазии, вызвал бы взрывную волну такой силы, что весь мир раскололся бы на части. Она была генератором мировой лжи, действующим в пределах ее микрокосма и приводимым в движение все тем же извечным разрушительным страхом, который побуждает людей все свои силы бросать на создание инструмента смерти.
Генри отнюдь не заблуждался относительно Джун. Он видел ее такой, какова она есть, и любил такой, какой видел, а это почти то же самое, что и любить ее такой, какова она есть. В ходе настоящего повествования я как-то вскользь упоминал уже о неких «исцелениях», осуществленных Генри в кругу его друзей и знакомых, и теперь должен признать, что Джун он так и не исцелил. Почему? Может, у нее все слишком далеко зашло? Не думаю. Разве можно назвать человека чудотворцем, если он не способен избавить калеку от увечья даже в самом безнадежном на первый взгляд случае? Грош цена тому чудотворцу, который поджимает хвост, когда дело доходит до воскрешения полутрупа!
Раз Генри не исцелил Джун, значит, он, надо полагать, и не собирался ее исцелять. Такой, какая она была, Джун была совершенна — для него, разумеется. Этот генератор лжи, этот ворох небылиц был необходим ему для собственного благополучия. Не будь она такой стервой, она не удовлетворяла бы его сложной чувственной организации. Более того, в попытке ее исцелить он подверг бы себя риску увидеть, как она растворяется в тонком эфире. О чудесном исцелении не могло быть и речи. Когда фокус любви сужается и концентрируется на единичном предмете, когда любовь перестает быть вселенской и становится сугубо личной, чудо лишается всякой возможности осуществления. Иными словами, как только любовь становится эгоистичной, она уже не может быть пособницей чудесного.
Но вернемся, однако, к миллеровским экспедициям на les bas-fonds[75]. Каких только невероятных персонажей он там не откапывал! Некоторые из голодранцев и пьянчуг являли собой зрелище поистине ужасающее. Был, например, один француз, называвший себя поэтом, хотя, возможно, так оно и было. Генри подцепил его в каком-то притоне в окрестностях Бастилии. Я в жизни не встречал более омерзительного существа за пределами свинарника. И руки, и лицо его были буквально «инкрустированы» грязью, лохмотья заскорузли от блевотины; он всегда был вдрызг пьян, и из его беззубого рта постоянно текла слюна. Зато у него была страсть к словотворчеству. Генри, который и сам был мастер ковать неологизмы, был потрясен, что кто-то способен проделывать подобные штучки с французским языком. «Comment ça va?»[76] — спрашивал он обычно при встрече с этим ханыгой, на что тот неизменно отвечал: «Ça va malement»[77]. Этот неологизм вызвал у Генри бурю восторга. «Ça va malement, ça va malement», — твердил он, как помешанный. До меня как-то не сразу дошло. Почему именно «malement»? Почему бы тогда не «mauvaisement»[78] если уж тебе так приспичило ввести в обиход избыточное наречие? Наверное, «mauvaisement» этому бедолаге было просто не выговорить, не имея во рту ни единого зуба, да к тому же насквозь пропитавшись vin blanc[79]. Генри тащил его на себе до «Трех мушкетеров» на Авеню-дю-Мэн аж от самой Бастилии, только чтобы мне его показать. Меня это не впечатлило. Не будучи таким добровольным лохом, как он, я вмиг разглядел всю убогость воображения этого забулдыги и не пожелал выдавливать из себя ни улыбки, ни слезы. Ça allait malement mal[80].
Еще был Макс. Тот самый Макс. Макс из «Макса и белых фагоцитов»{112}. С Максом он познакомился в районе гостиницы «Отель-де-Виль». Генри был потрясен атмосферой гетто, царившей в квартале, напомнившем ему улицу Деланси и 14-й округ в Бруклине. Макс был польским евреем, и совершенно непонятно, зачем ему понадобилось перебираться в Париж. Он ничего не добился экспатриацией из Польши — просто поменял польское гетто в Польше на польское гетто на Рю-де-Розье. Эта перемена никак не сказалась на его образе жизни. Он был нищ, нервозен, всегда на грани самоубийства. Даже палец о палец не ударил, чтобы найти себе достойную работу, оправдывая это тем, что не мог раздобыть разрешение работать во Франции. Жил он случайными заработками, кое-как перебиваясь за счет туристов, которых водил на экскурсии по самым занюханным борделям улицы Сен-Дени.
Вероятно, он ошибочно принял Миллера за туриста — еще и американского! Потому-то, наверное, он к нему и приблудился. Во всяком случае поначалу. А Генри и не возражал. Макс вызывал у него восхищение, смешанное с неприязнью. Снова все то же влечение к противоположному. Гой Миллер попался на удочку бедному еврею. Макс был довольно жутким типом — безобразный, вздорный, полный жадного коварства. Миллер же был человек сострадательный и, пожалуй, единственный во всем Париже, кто пожелал выслушать жалобы Макса. А уж когда Миллер кого-нибудь слушает, пусть даже самого презренного лжеца, как правило, что-нибудь да происходит. В данном случае произошло вот что: Макс совершенно потерял самообладание — он весь как-то обмяк и расплакался.
Макс плакал — в этом и состояло чудо. Грубый, ожесточенный, хамоватый хапуга-еврей из гетто плакал на груди своего, с позволения сказать, искупителя, и впервые в жизни его слезы, его печаль и отчаяние были искренними. Слезы принесли ему облегчение, очистили его. Он почувствовал себя слегка обновленным, а также слегка очистившимся. И еще немного поплакал. Миллер дал ему выплакаться, и это все, что он для него сделал. Из рассказа о Максе, написанного Генри впоследствии, мы узнаем, что он покупал ему еду, давал одежду — даже шляпу, от которой Макс, впрочем, отказался, но Максу все это было не нужно: все, что ему требовалось, — это хорошенько выплакаться, и Генри предоставил ему такую возможность. От Макса, наверное, жутко воняло, когда он плакал (обливаясь слезами, люди всегда пахнут острее), но Генри не обращал на это внимания, он не подгонял его, не останавливал, и если даже испытывал некоторое отвращение, то виду не показывал; он дал Максу столько времени, сколько тому требовалось, а может, и больше.