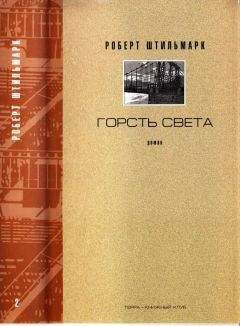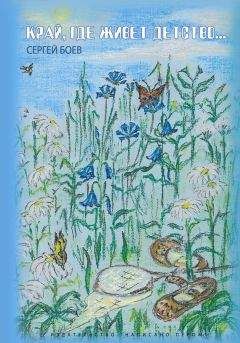РОБЕРТ ШТИЛЬМАРК - ГОРСТЬ СВЕТА. Роман-хроника Части первая, вторая
Отец улыбался матери, держал ее руку в своей, но обращался больше к Роне и, кажется, был им доволен. Он старался открыть сыну, что такое тысяча двести лет. И Роня чувствовал, будто приоткрывается ему глубочайшая пропасть, где струится во мгле река времени.
Кунцевский дуб зеленел здесь, чуть ниже кромки приречного холма, когда еще и не зарождалось государство Киевская Русь. Ведь считается, что России исполнилось десять с половиной веков (хотя есть города и постарше, Новгород, к примеру). Дереву же на кунцевском откосе — полных двенадцать!
Значит, когда Юрий Долгорукий посылал сына, Андрея Боголюбского, строить дубовую крепость на лесистом кремлевском холме при впадении рек Яузы и Неглинной в Москва-реку, верстах в двенадцати отсюда, этот несрубленный, уцелевший тогда дуб был уже старым, четырехсотлетним великаном. А потом он видел и татар, и поляков, и французов, помнит Пушкина и Тургенева, уцелел в пожаре Москвы при Наполеоне, должен теперь выстоять еще одну жестокую войну...
Жители к нему привыкли, крестьянские девушки водят здесь хороводы и гадают о суженом, старики же рассказывают страшные истории про этот парковый холм с дубом-великаном.
Потому что это вовсе и не природный холм, а насыпное городище древних финских язычников. Они жили здесь за тысячи лет до прихода славян-вятичей и их соседей — кривичей. Городище над Москвою-рекой в Кунцевском парке — самая старая крепость во всем ближнем Подмосковье. Финские языческие племена насыпали его четыре тысячелетия назад, в те времена, когда египтяне на Ниле возводили свои пирамиды и высекали лики сфинксов.
На самом же верху городища некогда пробилась холодная ключевая струя, и построили там по чьему-то обету небольшую церковь с колоколенкой- звонницей, для освящения родниковой воды. Только дела здешнего причта оказались темными, грешными. Постигла этих греховных служителей кара: провалилась церковь со всем причтом в самую глубь холма; под землю ушла! Доселе, если ночью приложить ухо к земле — услышишь глухой звон погребенного колокола: это грешники молят о опасении душ своих...
Роня сейчас же попробовал вслушаться, но различил только слабый шум листвы и звуки городских окраин.
— Днем-то не услышишь, — сказал на обратном пути Василий-кучер. — А в полночь — беспременно разберешь, что звонят снизу. У нас Даша, горничная, ездила сюда летось трамваем. Чуть со страху не обмерла, как прислушалась...
Папа отвечал шутливо, в уступку маминой сухой трезвенности и несклонности к фантастическому и таинственному. Она была смолоду чужда всякой мистике. Но чего папа и не подозревал, так это Рониной склонности к необъяснимому, мистическому. Сколько новых ночных теней привели эти папины рассказы в Ронину спальню! Однако, не этим стал для Рони символическим и судьбоносным нынешний кунцевский полдень!
Именно в этот час, когда под тысячелетним московским дубом прощалась семья с отъезжавшим на войну отцом, проснулось в мальчике чувство щемящей, болезненно сладкой любви к Москве, к России, сознание сыновности...
И он примирился даже с папиным отъездом, понимая, что отец едет спасать отчизну от подступившей беды.
Глава третья. ОТЧИЙ ДОМ
Первой жертвой войны среда близких маленького Рональда стала его бабушка, Агнесса Лоренс.
Мальчика привезли к ней на дачу в Лосиноостровское перед самым папиным отъездом в действующую армию. Именно по дальнейшим печальным обстоятельствам и был отложен на трое суток отъезд поручика Вальдека.
…Вечером, когда ничто еще не предвещало близкого бедственного события, бабушкины гости ужинали на дачной террасе под старой люстрой, случайно уцелевшей от петербургской лоренсовской мебели.
Прощальный семейный ужин бабушка Агнесса устраивала в честь отъезжающих на войну зятьев-офицеров: Олиного Лелика и Сониного Санечки Тростникова[19].
На проводы приехала из московской казенной квартиры — в Дегтярном, близ Курского, — младшая Ронина тетка Эмма со своим веселым, всегда оживленным брюнетом-мужем Густавом Моргентау. Как гимназический учитель, к тому же негодный к строевой службе по близорукости и астигматизму, он призыву не подлежал и испытывал чувство неловкости перед расстающимися.
За стол посадили и детей: Роника и Вику — под присмотром суровой бонны фрейлейн Берты; долговязую и озорную Сонину дочку Валю и даже годовалую Адочку Моргентау. Мама Эмма держала свою девочку на коленях, оберегая от ее хватких пальчиков тарелку и участок туго накрахмаленной скатерти.
Недоставало за столом только старшей, Матильды, но и та недавно писала матери с модного бельгийского курорта. Письмо это было о парусных яхтах разного фасона, об экстравагантных нарядах, выездных лошадях, пикниках и прочих радостях Матильдиного беззаботного, бездетного, нерусского супружества. Однако и это надушенное дамское письмо шло из Бельгии в Россию что-то необычно долго — может, и его путь уже пересекся где-то с кромками маршрутов маневрирующих армий на европейском театре войны?
Разговор за столом показался Ронику не особенно содержательным. Сам он, по дороге к бабушке, только что пережил массу интересного и готов был поговорить об этом даже со взрослыми, хотя они обычно лишь притворяются, будто им интересно слушать маленьких.
Поделиться хотелось очень важными впечатлениями. Когда он приехал с родителями в Лосинку от Стольниковых, два часа назад, на перроне стояла группа нарядно одетых дачников — дамы в широкополых шляпах и господа в котелках, канотье и летних костюмах, а чуть поодаль от этих господ маячило несколько жандармских чинов и штатских личностей, подозрительно взиравших на собравшихся. Оказывается, ждали царского поезда. Среди дачников была и тетя Соня с дочкой Валей. Роня стал просить папу и маму, чтобы и они остались встречать поезд, но фрейлейн Берта с маленькой Викой на руках побоялась одна идти к бабушкиной даче, и Роню оставили на станции под присмотром тети Сони.
Как только родители удалились, появился и поезд. Он шел к Москве. И хотя двигался он мимо перрона довольно медленно, Роня не успел пересчитать вагоны, потому что вглядывался в каждое зеркальное окно, чтобы узнать царя. У Рони уже зарябило в глазах от мелькания этих плывущих мимо вагонных окон с поднятыми и опущенными шторами, как вдруг в одном окне возникло как негаданно-нежданное видение лицо очень красивого мальчика-подростка. Роня отчетливо разглядел нежную линию шеи, вырез отложного воротничка матроски, а позади — женскую фигуру вполоборота и смутно белеющее худое лицо под высокой прической. В толпе на перроне закричали, замахали букетами. Роня, провожая взглядом цесаревича, упустил из виду следующее окно, и когда тетя Соня дернула его за руку, он различил только плечо белого кителя с офицерским погоном и русую бородку в облачке папиросного дыма.