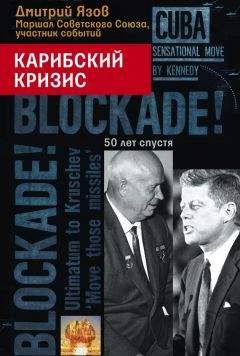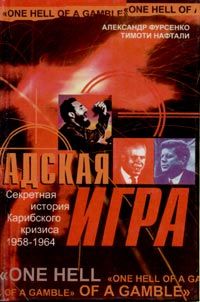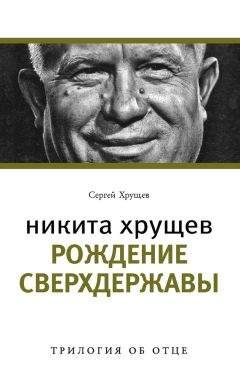Сергей Голицын - Записки уцелевшего
Не только искусством я наслаждался, — были и тяжелые переживания.
Наша Успенская улица изо всех пересекавших Воронежскую и спускавшихся к пруду улиц была наиболее крутой. Поэтому именно ее со времен, верно, Болотова облюбовали мальчишки и девчонки с ближайших кварталов для катанья на обледенелых скамейках и в лукошках. Они катались целыми днями перед окнами нашего дома, но я ребят не знал, а идти с ними знакомиться опасался.
Скамейка — это высокое узкое сооружение, состоящее из двух досок — одна внизу, другая наверху, — соединенных между собой четырьмя стойками, днище нижней доски обмазывается навозом и обливается на морозе водой. Садись на скамейку верхом и катись до самой Воронежской. Вдвоем кататься выходило сподручнее, можно было дальше забираться.
Сестра Лина, видя, что я все сижу дома и читаю, чуть ли не силком вытащила меня на улицу, полагая, что любой катающийся в одиночку мальчишка позовет меня присоединиться к нему. Когда толпа мальчишек с несколькими скамейками поднялась в гору, я смело подошел к ним. Один из них повернулся ко мне, собираясь меня позвать, и вдруг другой, белобрысый, заорал на всю улицу:
— Не сажайте его с собой! Он — князь!
Кровь ударила мне в виски, я даже пошатнулся.
А мальчишки сели на скамейки, девчонки в лукошки, и вся орава покатила. Я остался, одиноким столбом.
И с тех пор в течение трех зим я ни разу не выходил кататься с гор и в течение трех лет не только не водился с соседними мальчишками, но даже не разговаривал с ними, хотя мы встречались постоянно в очереди за хлебом. Выдержал-таки характер!
Скучал ли я в одиночестве? Нисколько. У меня были другие друзья книги. Благодаря служившей в городской библиотеке сестре Лине я ходил туда в неприемные дни и часы и менял книги. Просто удивительно, какую уйму самой разнообразной литературы я успел прочесть! Нет, я не проглатывал страницы, а читал с чувством, перечитывая полюбившиеся мне места, заучивал наизусть отдельные монологи и отрывки. Некоторые произведения я с тех пор и не видывал, а все равно смогу пересказать их содержание. Я прочел полные собрания сочинений Жюль Верна, Майн Рида, Стивенсона, Брет Гарта, романы Всеволода Соловьева, Загоскина, Лажечникова, Вальтер Скотта, сочинения А. К. Толстого, Шекспира, Шиллера, Жуковского, Ростана, трилогию Мережковского, историю и мифологию Греции и Рима, одолел восемь томов Брема, а на истории России Соловьева споткнулся, добравшись до избрания на царство Михаила Федоровича. А еще мать мне читала вслух классиков.
Шекспир и Шиллер были в великолепных изданиях Брокгауза, со многими картинками. Трагедии, комедии, исторические хроники Шекспира повергали меня в трепетный восторг. Я жил поэтическими образами из прочитанных мною книг и уходил в прекрасное царство грез, столь далекое от голодной действительности.
И родилась в моем сердце самонадеянная идея: я тоже, как Шекспир, буду писать пьесы, и, разумеется, в стихах. Пригодились бумага из графского архива и чернила из сажи. О чем писать? Конечно, на исторические сюжеты с возможно большим количеством поединков, убийств и самоубийств. Писал я втайне от всех белыми, без рифм, стихами, нисколько не заботясь о ритме, и сочинил пьесы — о Ромуле и Реме, о Мстиславе Удалом, о рыцаре Ланселоте, о Юлиане Отступнике, о Савонароле. Мне грезилась будущая слава: поставят мои пьесы в Богородицком театре, будут меня вызывать с аплодисментами, как вызывали дядю Владимира Трубецкого после премьеры "Грушевого дерева". А еще, подобно сестре Соне, я буду приносить домой тысячи рублей и разную снедь.
Конечно, все, что я тогда кропал, было несусветной чепухой. Но это сейчас я так думаю, а тогда мне казалось, что у меня получается лишь немногим хуже, чем у Шекспира…
Однажды Соня, вернувшись из театра, сказала, что Четвертушкин приглашает меня к своему сыну Жене на следующее воскресенье с утра.
Я пойду к тому, кого считал театральным богом и чародеем! Я познакомлюсь и, конечно, подружусь с его сыном — таинственным узником, которого никогда не выпускали гулять. Можно представить мою радость и мою гордость. Одежонка у меня была плохонькая, пальтишко на рыбьем меху, курточка и штаны в заплатках, валенки подшитые и чересчур просторные. Кое-как меня принарядили, тетя Саша дала последние наставления — как вилку держать, не накидываться на еду и т. д. Младшие сестры с завистью меня провожали. Я полетел в Земледелку как на крыльях. По дороге думал: подружусь с таинственным Женей и с его помощью передам свои пьесы его всемогущему папе.
Позвонил, мне открыла дамочка в кудряшках. Сзади нее я увидел высокого мальчика в вельветовом костюмчике, бледного-бледного, даже с синевой. Коротая дни в заточении, он вытянулся наподобие картофельного ростка в погребе.
Почему же родители держали своего сына взаперти?
Когда-то у супругов Четвертушкиных была дочь, в которой родители души не чаяли. Лет восьми она заболела скарлатиной и умерла. У них родился сын, и они, чересчур любя его и до ужаса боясь всяких заразных болезней, решили никуда его не выпускать. Так и рос бедный Женя, не дыша чистым воздухом, видя солнце, деревья и траву лишь из окна, не умея бегать, издали наблюдая за играми своих сверстников. Его единственными друзьями были книги. А я оказался первым мальчиком, с кем ему довелось заговорить.
Мы сошлись с ним сразу. Нет, мы не стали играть в солдатики, коих у него было множество, мы просто садились рядышком, а со второго свидания обнявшись, и говорили, говорили…
От матери я скрывал свои грезы о рыцарях Круглого стола, а Жене рассказал. Я признался ему о своих чувствах к замученному мальчику царевичу Алексею и только о гибели своего дяди Миши умолчал.
И Женя мне признался, что тоже постоянно скорбит о бедном царевиче, показал мне несколько его портретов. И еще он мне рассказал то, что тоже от матери скрывал. Оказывается, всю свою квартиру он населил невидимыми существами, с которыми потихоньку беседовал: в стенах жили «стеньчики», под полом «половички», над потолком… забыл, как именовались. Мы с ним пересказывали содержание прочитанных нами книг. И тут мое самолюбие было уязвлено. Женя был моложе меня почти на год, а успел прочесть куда больше книг, нежели я, в том числе и по философии — чуть ли не Канта и Ницше. Это в одиннадцать лет!
А кормили меня там божественно. Дома Нясенька подавала жидкий пшенный, сваренный на воде кулеш, не всегда заправлявшийся конопляным маслом, а Женина мама накладывала мне полную тарелку крутой, молочной, да еще с сахаром, пшенной каши. И хлеба я съедал сколько хотел.
Жениного папу я видел только мельком. Он приходил, наскоро проглатывал обед и скрывался в своем кабинете.