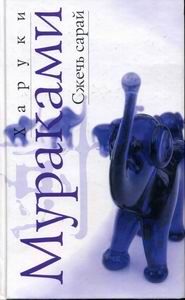Дэвид Эдмондс - Кочерга Витгенштейна. История десятиминутного спора между двумя великими философами
В 1930-е годы дискриминация австрийских евреев усилилась как никогда прежде. Гитлер был уже на пороге, а дома со всех сторон давило клерикально-корпоративное государство. Роберт Вистрих пишет:
«Богаты были евреи или бедны, ютились в гетто или выступали на подмостках "Бургтеатра", хранили верность иудейской вере или слились с христианским населением — все они служили мишенью для нападок венских антисемитов. Что бы ни делал еврей, везде его встречали предвзятость и враждебность».
Нацистская партия Австрии захватила власть над университетами, сделав их закрытой зоной для евреев, — студенты-нацисты не пускали их туда силой.
Худшее, однако же, было еще впереди. Но к тому времени Карла Поппера уже не было в Европе. Как только он задумался о том, чтобы оставить преподавание в школе, двери в академическую карьеру в Австрии захлопнулись окончательно, а ключи от них были у нацистов. Атмосфера становилась все невыносимее и в конце концов привела Поппера к решению, изменившему его судьбу и усилившему ощущение отверженности от нормального течения академической жизни. Это ощущение станет неотъемлемой частью его мировоззрения и вызреет в протест, который и вырвется наружу 25 октября 1946 года, на заседании Клуба моральных наук.
11
«Немножечко еврей!»
Если я исчерпал все доводы, я достиг твердой породы, и лопата моя уперлась в камень. Тогда мне остается сказать: «Я просто делаю то, что делаю, вот и все».
ВитгенштейнИ Попперу, и Витгенштейну — второму даже с большим основанием — можно было бы предъявить одно и то же обвинение: в их работах отражается явная ненависть к собственному еврейству, даже антисемитизм.
Если Поппера больше интересовало место еврейского народа во внешнем мире, в общественно-политической жизни, то Витгенштейн, как и следовало ожидать, был сосредоточен на мире внутреннем — как собственном, так и других людей. Его постоянно терзала идея, что еврейское происхождение — это механизм, контролирующий сознание; что евреи изначально, от рождения, думают определенным образом; что «еврейскость» (в том числе, разумеется, его собственная) ограничивает или искажает мысль.
Непросто представить, как в тридцатые годы в нем пробуждалось еврейское самосознание, ибо Витгенштейны в свое время сделали все, чтобы еврейство стало для них безвозвратным прошлым. Прадедушку Людвига по отцу звали Моисей Майер, но в 1858 году семья взяла фамилию Витгенштейн — в честь Сайн-Витгенштейнов, у которых Майер служил управляющим в Хессе. Многие ошибочно считали Людвига отпрыском этого германского княжеского семейства. В некрологе, опубликованном в The Times, сообщалось, что Витгенштейн происходил из знатного австрийского рода: «в числе его предков был князь Витгенштейн, воевавший против Наполеона».
Дед и бабушка Людвига по отцовской линии обратились в протестантизм, а еврейские предки со стороны матери с давних пор были христианами и вступали в христианские браки; сама она была католичкой, и Людвига крестили в ее веру. С точки зрения ортодоксально-. го иудаизма Людвиг вообще не был евреем, поскольку еврейкой не была его бабушка с материнской стороны, Мария Штальнер. Но от нацистских преследований это, как мы увидим, не спасало. Обучавшая Витгенштейна в Кембридже русскому языку Фаня Паскаль, размышляя о его происхождении и крещении, делала вывод, что его нельзя считать евреем. В детстве, на Украине, она в полной мере испытала на себе антисемитизм царской России; по ее словам, о таких, как Витгенштейн, ее бабушка говорила: «Немножечко еврей».
Что думали о своих еврейских корнях сам Людвиг, его братья и сестры, — об этом можно судить по-разному. Для начала стоит вспомнить о том, как еще подростками Людвиг и Пауль захотели записаться в один венский спортивный клуб, куда вход евреям был закрыт. Людвиг думал, что невинная ложь позволит им обойти запрет, однако Пауль так не считал — и они нашли другой клуб. Если это правда, то непонятно, как трактовать другой случай: вскоре после аншлюса Пауль, «бледный от ужаса», объявил сестрам: «Мы считаемся евреями». Ужас его был вполне оправдан. В Германии уже три года действовали Нюрнбергские законы, согласно которым все евреи были лишены гражданских прав (оставаясь при этом подданными Германии). Музыкантам-евреям запрещалось выступать с концертами. Вена и Прага были наводнены еврейскими музыкантами из Германии, ищущими работу. Среди знакомых Пауля наверняка были такие люди. Однако его недоумение выглядит странно в свете реалистичности, проявленной им в ситуации со спортивным клубом.
Сохранилось еще одно семейное Предание Витгенштейнов — о том, как Милли, одна из тетушек Людвига, спросила его дядю и своего брата Луиса, «верны ли слухи о том, что они евреи». «Pur sang [чистокровные], — ответил он. — Pur sang». Позже взгляды внучки Милли на их еврейское происхождение сыграют для семьи жизненно важную роль.
И, наконец, сам Людвиг. В начале Первой мировой, отправляясь добровольцем на фронт, он с мрачным предчувствием записал: «Мы можем проиграть эту войну и проиграем, не в этом году, так в следующем. Сама мысль о том, что наш народ будет побежден, страшно угнетает меня, потому что я целиком и полностью немец».
Все эти истории говорят об одном: Витгенштейны так глубоко вросли корнями в культуру католической Вены, что, хотя они и осознавали свое еврейское происхождение, в их жизни оно не играло совсем никакой роли. Они не то чтобы активно отрицали свое еврейство (хотя однажды Людвиг подошел к этому совсем близко, после чего терзался чувством вины) — они его просто не замечали.
И их трудно в этом упрекнуть. Пауль Энгельман, еврей и друг Людвига, утверждал, что Витгенштейн не осознавал своего происхождения вплоть до 1938 года: «В некоторых случаях — взять хотя бы Отто Вейнингера и Карла Крау-са, которыми Людвиг восхищался — явно прослеживается влияние специфического еврейского окружения; и, конечно же, эти люди воспринимали себя как евреев. Но еврейские корни самого Витгенштейна были слишком далеки, чтобы как-то на него повлиять, и он, похоже, вообще не вспоминал о них до самого аншлюса».
Но какое бы впечатление ни производил Витгенштейн на Энгельмана, знавшего его со времен Первой мировой, все-таки в тридцатые годы он пережил глубинное осознание своего еврейства. Именно в этот период он писал размышления о еврействе и составлял «исповеди» в грехах, которые в 1931-м и 1937-м зачитывал избранным друзьям и знакомым — напуганным этими признаниями и зачастую не желающим их слушать. Один из его «грехов» состоял в следующем: он не опроверг заблуждения тех, кто считал, что в нем не три четверти еврейской крови, а всего четверть. Если бы соображения, изложенные ниже, принадлежали перу другого автора (скажем, Т. С. Элиота), их бы заклеймили как откровенно антисемитские: