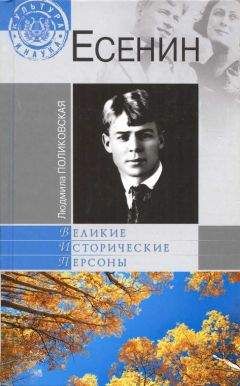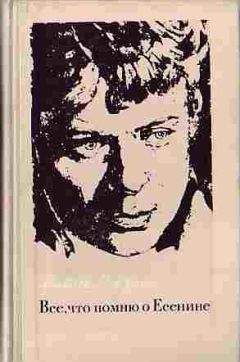Надежда Вольпин - Свидание с другом
Есенин подает мне знак подождать. Но с гостьей не знакомит.
Женщина удалилась, бросив: «Что ж! Я ухожу!» Даже не кивнула на прощанье.
— Кто такая?
— Так. Одна... из наших мест.
— Землячка?
— Ну, да!
А у меня вспыхнуло в памяти имя: Лидия Кашина! Та, кому посвящена «Зеленая прическа»...
Многие годы спустя я увидела в одном издании портрет Л. И. Кашиной. На портрете она смотрела моложе и красивей. Но то же решительное, властное лицо — знакомое лицо «землячки».
Впоследствии я узнала, что как раз об эту пору — в сентябре 1923 года — Кашина появилась в Москве.
ПОСВЯЩЕНИЕ МОЖНО И СНЯТЬ
Мой бедный друг, ступай, как шел
Земле не тяжело:
Ей не сомнет зеленый шелк
Ее детей веселый полк,
Веселый и живой!
Осень двадцать третьего. Я сижу в своей комнате на Волхонке за неудобным для письма овальным столом, записываю с вариантами это сдое новое стихотворение, еще не завершенное.
Стук — и, не дожидаясь ответного «войдите», «бедный друг» распахивает дверь.
— Можете быстро собраться? Внизу ждет извозчик. Едем вместе!
— Куда?
— Объясню дорогой. Приберитесь.
Ополаскиваю в тазике лицо. Сбрасываю шлепанцы, проверяю на себе чулки: как будто целые. Влезаю в туфли на венском каблуке. Платье… сойдет и это, оно хоть сидит хорошо, лучше моего парадного. Берусь за помаду.
— Бросьте, вам без краски лучше. И пудры не надо.
В пролетке узнаю; у Георгия Светлого день рождения.
Сергей везет меня к ним.
— Светлый? Знаю, такой же белесый, как Ганин. На деле его зовут Павличенко?
— Да. А жена у него художница. Хорошие люди. Вы у них бывали?
— Никогда.
Я почему-то путаю Георгия Светлого с художником Комарденковым — тоже очень белым. Только у того лицо широким ромбом, а у Светлого — прямоугольником... Против них Есенин смотрится чуть не русым.
Встречают нас (верней — Есенина) с истинным радушием, даже с радостью. В комнате полно народу. Большинство на ногах, но для нас сразу очищают место: садимся в изножье широкой тахты, на торце. Я в углу у стенки. Сергей рядом, оставив место еще кому-то; в тесноте, да ее в обиде. Наискосок против нас вижу рослую (и как всегда немного встрепанную) фигуру Сергея Клычкова. Он останавливает на мне ревнивый глаз — но дело не во мне, в Есенине. Зачем это все (и я в том числе) так его любят? Зачем сам он, Клычков, не может его не любить?
Пьют. Едят «а ля фуршет». Просят Есенина почитать новые стихи.
Он прочел сперва из «Москвы кабацкой»: «Сыпь, гармоника. Скука... Скука!» и «Пой же, пой...». Потом из нового цикла.
— Посвящается Августе Миклашевской.
Клычков сощурился, смотрит с осуждением.
Все эти стихи я уже слышала, Есенин читает, как всегда, вдохновенно. Кончил. И тут заговорил— первым же — Сергей Антонович. Медленно, веско. Почти сердито, с подчеркнутым «оканьем».
— Пушкин любил Волконскую десять лет (В двадцатых годах легенда о великой любви Пушкина к Волконской еще не вызывала сомнений. — Н. В.), прежде чем посвятил ей стихи. Ты же и десяти недель не знаком с женщиной, а уже, извольте: посвящаем ей чуть на книгу стихов!
Слова Клычкова меня не удивили — удивило что Есенин счел нужным оправдываться. Что его так задело? Это станет ясней через полгода, когда он распишет Пушкина под себя («Блондинистый, почти белесый»... О, Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган»).
— Да разве это к Миклашевской? Это к женщине вообще. Поэт — к русской женщине.
И добавляет, искоса глядя на меня:
— Вольпин знает.
— Нет, Вольпин не знает,— вставляю я с вызовом.— Ничего Вольпин не знает.
Сергей только усмехнулся. Зато при очередной публикации цикла «Любовь хулигана» посвящение было им снято. Не помню точно, в какой. Возможно, в журнальной. Но очень помню свою досаду при чтении: Сергей Клычков бросил слова о Пушкине и Волконской,— и пожалуйста, радуйтесь: снимаем посвящение.
Впрочем, и в четырехтомнике (1926 г.), где не соблюдался строго календарный порядок, посвящение отсутствует. Да и в позднейших изданиях оно загнано в примечания. Добавлю: три первых тома собрания 1926 года Сергей Есенин составлял лично.
Для меня в этом вопросе интересно не отношение Есенина к Августе Леонидовне Миклашевской, а то, как близко он принял к сердцу упрек Клычкова: его сопоставление «Есенин — Пушкин», и притом не к выгоде для нового поэта.
Мы поедем вместе домой, и Есенин станет у меня выпытывать, как я смотрю на новые его стихи. Сегодня я слушала их не по первому разу, значит, у меня составилась оценка.
Жаль, но я не смогу открыть перед ним мои думы. Как я скажу ему; выше всего ценю те, «кабацкие» стихи! Здесь вся душа поэта, с надломом; с отчаянным этим раздвоением. Самоистязание — и громкий крик «Я с собой не покончу»... но в нем-то и слышится признание о тяге к расправе над собой. Ничего искренней и глубже этих стихов я у него не знаю. И узнаю ли?
Ну, а «Любовь хулигана»... В жизни-то хулигана нет, есть лишь поза хулигана в стихах. Нет и его любви: есть жажда полюбить. Ты сказал: «Стихи не к Миклашевской, они к русской женщине вообще, и в частности, знаешь сама, к тебе...» Нет, неправда. На стихах отпечаталось и что-то от облика твоей красавицы, даже ее имя обыграно.
Это все останется в моих думах, но в них я тебе никогда не признаюсь, мой бедный друг!
К ИСТОРИИ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ
Возвращение
— Ужель заказана навек
Обратная дорога?
Пусти, подруга, дай ночлег! —
Он молит у порога.
«— Три дня я плакала навзрыд,
О мертвом вспоминая.
Прости, как бог тебя простит,
С другим сговорена я».
Он к матери стучится в дверь.
— Вернулся сын твой милый:
Во мне узнаешь ты теперь,
Кого, любя, вскормила?
«— Три ночи ветер выл в трубе...
Простимся без обиды:
Я заказала по тебе
Четыре панихиды!»
Тогда он вспомнит: три свечи
И праздник новоселья,
И заторопится в ночи
К своей последней келье.
— Нежнее всех любимых тел,
Покуда жизнь горела,
Тебя я нянчил и жалел,
Мое земное тело.
Я веселил тебя вином,
Купал в любви и славе,
Я буйством оглашал твой дом,
Я ловкой пляской правил...
Когда же эта кровь, сомлев,
Наскучила весельем,
Я возвратил ее земле
Смертельным, трезвым зельем.
Нежнее всех любимых тел,
Заботливей и слаже
Тебя до смерти я жалел —
И после смерти даже!
Это стихотворение — с некоторыми разночтениями (частично они — моя уступка редактуре) — напечатано в сборнике Ленинградского Союза поэтов («Костер» — Ленинград, 1927). И многими было оно воспринято как отклик на смерть Есенина. Между тем эти стихи — точнее, их первый, более пространный (и слишком рыхлый) вариант, под названием «Баллада о вернувшемся» — были мною сложены еще ранней осенью 1923 года и внушены тем впечатлением, какое производил на меня (как и на многих) Сергей Есенин по возвращении из заграницы. Тот полный вариант я не раз читала с эстрады в течение двадцать четвертого и двадцать пятого года.