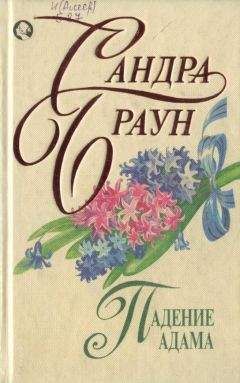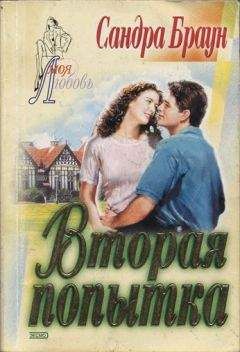Михаэль Деген - Не все были убийцами (История одного Берлинского детства)
В квартире было четыре комнаты. Две занимала сама Людмила, одна предназначалась для матери, еще одна — для меня. Обстановка всех комнат была чрезвычайно проста. В каждой комнате стояли кровать, шкаф и один стул.
Лишь в самой большой комнате стоял стол и несколько стульев. Моя комната была самой маленькой и напоминала чулан. Но зато в квартире была большая ванная и прекрасная кухня. Кухня была самым теплым местом в квартире, и мы проводили в ней много времени.
Людмила, казалось, была довольна, что мы снова жили вместе. Мать отлично готовила, прекрасно справлялась с немудреным хозяйством нашей маленькой компании, и Людмила могла целыми днями играть на маленьком, взятом напрокат пианино.
Мать оказалась права. Наше новое жилище было просторнее, уютнее и теплее садового домика. Но главное — мы снова повеселели. Новая квартира казалась нам чем-то прочным, стабильным, почти семейным очагом. Лона могла без опаски заглядывать к нам, приносила деньги и купленные на черном рынке продукты. Время от времени она даже оставалась ночевать в комнате матери. В такие вечера все три женщины сидели на кухне. Людмила и Лона пили. Мать не переносила никакого алкоголя, но принимала участие в общей беседе. Я обычно тоже сидел на кухне вместе со всеми, и мне разрешалось отправляться в постель попозже. Из кухни до меня доносился громкий смех Людмилы и веселый, заразительный смех Лоны. Рассказы Людмилы — про себя я называл их «русскими сказками» — и в самом деле были очень интересными. По ее словам, все рассказанное произошло когда-то или с ней самой, или с членами ее семьи.
Мне были не слишком понятны ее рассказы о придворных празднествах, о любовных приключениях ее старших сестер, о поместье, которым владела ее семья, жившая, по словам Людмилы, на широкую ногу. Но однажды в моем присутствии она рассказала о резне, устроенном в этом поместье большевиками. Причем большевики натравили на владельцев поместья жителей окрестных деревень, в том числе и собственных слуг Людмилы. «Это было гораздо страшнее того, что творят нацисты», — уверяла она.
Взглянув на мать, я совершенно спокойно спросил Людмилу — в России тоже людей отправляли в газовые камеры? Она отрицательно покачала головой — нет, ее соотечественники не могли организовать что-то подобное, у них не было условий для этого, да и сейчас у них наверняка ничего такого нет, иначе немцы не смогли бы так быстро захватить Россию.
«Это как раз тот особый немецкий талант, русским далеко до этого», — говорила она. — «И если бы Америка не вмешалась в войну, немцы сегодня были во Владивостоке и уже объединились бы с японцами. В России людей приканчивали очень просто. Да и палачей там хватало. Во всяком случае, у Сталина было для этого много времени».
Она подняла указательный палец. «Знаете», — сказала она со своим особенным акцентом, — «вообще не очень-то не ясно, кто хуже — Гитлер или Сталин».
Лона громко расхохоталась.
«Ну хорошо, Людмила. Я подарю тебе моего Гитлера, а твоего Сталина ты тоже попридержи. Вот это будет сделка!»
«Конечно, для евреев Гитлер не совсем то, что нужно», — немного смущенно объяснила Людмила.
Это объяснение развеселило мать. Она засмеялась — в нашем новом жилище она оттаяла и опять стала смешливой.
Мы провели на Байершенштрассе несколько недель. Это было прекрасное время! Правда, воздушные налеты здесь были даже более частыми, чем на Гекторштрассе. А мы жили на последнем, пятом этаже, и попадание бомбы в дом означало бы для нас смерть. Но ощущение защищенности, семейного очага, которое давала нам эта квартира, было сильнее страха. Людмила больше не предпринимала попыток затащить меня в свою постель. То ли тогда, в большой квартире, ей было одиноко, то ли просто пропала охота к подобного рода играм — не знаю. Во всяком случае, я был очень доволен. Наверное, при попытке возобновить эти игры я устроил бы скандал. А последствия меня не волновали. В присутствии Дмитриевой я больше не чувствовал себя скованно и охотно слушал рассказы о ее прежней, российской жизни. «Да, что и говорить, неплохо жили русские в то время. А теперь Гитлер взялся за них», — думал я про себя. Когда я высказал свои соображения вслух, лицо Дмитриевой сразу приняло замкнутое, высокомерное выражение.
«Ты ничего не понимаешь», — раздраженно возразила она. — «Ты же никогда не жил при Сталине!»
«С меня и Гитлера достаточно», — сказал я.
Дмитриеву мои заявления явно рассердили, и после нашей словесной перепалки некоторое время делала вид, будто не замечает меня. Как ни странно, мать из-за этого никогда не делала мне замечаний, хотя ужасно боялась потерять то призрачное ощущение безопасности, которое давало ей пребывание в людмилиной квартире. Сегодня, вспоминая прошлое, я думаю — почему эта женщина помогала нам? Германское правительство великодушно предоставило ей убежище, да и нацисты, по-видимому, тоже вполне терпимо относились к «жертвам коммунистического режима». Во всяком случае, у Людмилы Дмитриевой не было никаких затруднений, она никогда не подвергалась проверкам со стороны нацистов, обычно враждебно относящихся к иностранцам. До сегодняшнего дня у меня сохранилось подозрение, что Дмитриева была у нацистов осведомителем и, видимо, в случае, если немцы проиграют войну, хотела иметь в запасе какой-то шанс для собственного спасения. Она просто не хотела верить в то, что Сталин может выиграть войну. Меня каждый раз поражало, как Людмила, обычно такая сдержанная, приходила в ярость, когда кто-нибудь заводил об этом речь. Она возмущалась тем, что Англия и Америка пришли на помощь этому преступнику и даже заключили с ним пакт, хотя, по ее мнению, уж они-то должны понимать, что следующий удар победивший Сталин направит против них, своих бывших союзников.
Мать возражала Людмиле, что Гитлер — тоже отнюдь не кроткая овечка. На что та неизменно отвечала:
«Национал-социалисты всегда подчеркивали, что они позволяли евреям эмигрировать из Германии. Многие евреи сделали это еще до войны. Америка, например, могла бы без проблем справиться с большим количеством эмигрантов. Да и в Южной Америке, и в Австралии тоже места хватит. А нацисты хотят избавиться от евреев только потому, что это закреплено в их идеологии».
Я сказал, что в сталинской идеологии закреплено преследование буржуазии. После этого вплоть до нашего расставания Людмила говорила со мной только о самом насущном.
В феврале 1944 года мою мать чуть не арестовали. Произошло это на Оливаерплац и послужило причиной нашего окончательного расставания с Людмилой Дмитриевой. В то утро мать по какой-то причине решила выйти из дома. День был солнечный, но довольно холодный. Мы уже почти дошли до Оливаерплац, когда мать попросила меня сбегать в квартиру и принести ее перчатки — на улице, оказывается, холоднее, чем она думала.