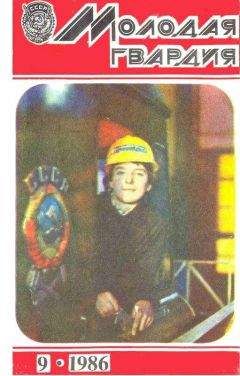Эраст Кузнецов - Павел Федотов
Рисовал он прежде всего свою братию, офицеров. И Ивана Алексеевича Захарченко, экзекутора полка, пробирающегося в дождь между лагерными палатками. И славного Буасселя, у которого панталоны лопнули по шву в самом неподходящем месте и при самых неподходящих обстоятельствах — то ли на плацу, то ли на походе — словом, не дома, не в казарме; и солдат, припав к обширному офицерскому заду, спешит иглой исправить разрушения (рисунок называется «Как хорошо иметь в роте портных»). И Фридрихса, захваченного в крайней спешке, — шинель вынужден нести в руке, ремешок кивера не застегнут, отчего самый кивер сполз на затылок, вопреки уставу, но все это ничто в сравнении со шлепанцами, надетыми на ноги вместо сапог, — правда, на них же чудом удерживаются и шпоры. Рисовал и многих других, в том числе и себя, в комическом виде: сам над собою посмеешься — другим будет меньше охоты.
Добирался и до начальства. Не раз изображал командира полка Вяткина, и всякий раз в не красящем его состоянии начальственного восторга. Вяткину же посвящены и две парные карикатуры — «Брань под Смоленским (кладбищем)» и «Брань под Красным (селом)», построенные не без изящества на двойной игре слов. С одной стороны, «брань» это и сражение, и просто брань, ругань. С другой стороны, Красное и Смоленск — места важнейших сражений 1812 года, они тогда были на слуху у всех, тем более в армии. В карикатуре же они выступают как Красное Село — место летних лагерей, и Смоленское кладбище, соседствующее с плацем Финляндского полка. Смешно придумано и не без горечи, потому что параллель между 1812 и 1839 годами, увы, не в пользу последнего.
Дерзал обратить свой карандаш и на августейшего шефа императорской гвардии: Михаил Павлович был фигурой колоритной и чрезвычайно популярной, особенно в гвардии.
Не рискованно ли? Пожалуй, нет. Михаил Павлович сам известен был как изрядный любитель-острослов (про него даже говорили, что взятки он берет каламбурами) и не раз проявлял снисходительность к остроумцам. Дойди до него какая-нибудь из карикатур (а скорее всего, доходили) — он бы и над нею похохотал и лишь в худшем случае вызвал бы автора к себе и хорошенько распек. Вольность, конечно, но вольность извинительная, так сказать, интимная, допустимая в том обширном семействе императорской гвардии, отцом которого искренне почитал себя Михаил Павлович, точно так же, как его старший брат почитал себя несущим тяжкое бремя отцовства по отношению ко всей Российской Империи.
Нет, не стоит искать в этих рисунках социальную заостренность, дух свободомыслия, протест против окружающей действительности, политическую зрелость. Военные карикатуры Федотова, в сущности, достаточно добродушны. В них обнаруживается взгляд «изнутри» — в противовес подлинной сатире, которая стремится глянуть «извне».
Подобные карикатуры были широчайше распространены в офицерской среде: помогали отвести душу, позубоскалить, представить тяжелое и неприятное — смешным, то есть как бы нестрашным. Вместе с лихими попойками, вольными песнями и разного рода проказами, которыми так прославилось это мрачное казарменное время, они входили в неписаный перечень малых свобод, которые, безусловно, не поощрялись, но в большинстве своем рассматривались как проявления молодечества, безобидного фрондерства, извиняемого летами и не идущего в ущерб правильному несению службы. В конце концов, сам бог велел злословить в адрес начальства.
Разумеется, и в проказах, и в песнях, и в карикатурах были свои пределы, переступить которые значило посягнуть на незыблемое и жестоко поплатиться за это. Но Федотов не переступал и не посягал. Все его карикатуры были сугубо домашними, адресовались самому узкому кругу лиц, понимавших, о чем идет речь. Полковые персонажи, полковые происшествия, полковые волнения.
Кроме, разве что, карикатуры «Малярное искусство», сейчас уже не очень понятной: солдаты красят стены, обмакивая в кадушку с краской не малярные кисти, а кисточки на своих высоких киверах, да еще делают это с подчеркнутой невозмутимостью, словно привычное дело (один даже покуривает трубочку). Солдаты эти, судя по киверам, не финляндцы, а другого полка, может быть Павловского. Словом, если автор и вышел за пределы полка, то все-таки остался в той же гвардии. Но и это исключение, потому что все существовавшее вне полка как бы не существовало для насмешек. Карикатуры были для домашнего употребления.
Не потому ли карикатур Федотова сохранилось так мало? Непонятные за пределами полка, быстро терявшие занимательность и для самих участников и очевидцев, они погибали очень легко. Тем более что лишь немногие из них удостаивались акварели, а чаще имели невзыскательный вид поспешного наброска карандашом на случайном лоскутке бумаги. Ими не дорожили, по крайней мере до той поры, когда известность Федотова распространилась и всякая его почеркушка, таким образом, обрела ценность.
Кроме карикатур Федотов делал и портреты, причем в громадном количестве: перерисовал едва ли не всех своих сослуживцев, а иных и по нескольку раз, в разных вариантах; запечатлел и многих членов их семейств. Рисовал в разной технике — и карандашом, и акварелью; пробовал и менял манеру, делал и распространенные тогда силуэты. Финляндскому полку несказанно повезло. Отныне и навсегда офицеры, служившие в нем в течение этого десятилетия, будут являться нам не сухим списком имен с присовокуплением званий и должностей, но галереей живых лиц, увиденных внимательным глазом и запечатленных быстро набирающей уверенность рукой.
Как вспоминал Дружинин, на этих портретах Федотов «набил свою руку до того, что мог шутя, одною чертою, изображать того или другого из своих приятелей, товарищей и начальников». Между портретом и карикатурой, таким образом, у него не было непроходимой черты: лицо, многократно рисованное всерьез, хорошо изученное на сеансах, легко становилось объектом карикатуры.
Портрет — это в самом деле свидетельство об определенном уровне или хотя бы о притязании на уровень. Кто не баловался карикатурами? Разве что самый неумелый или робкий. Там остроумие выдумки все искупит, а мало ли вокруг остроумцев! В портрете же надобно сходство, а сходства не достигнешь без таланта и умения.
О своих карикатурах Федотов в автобиографии не обмолвился ни словом — будто их и не было. А портретированию посвятил несколько строк: «…и вот уже начали говорить, что всегда делает похоже». Портреты принесли ему первое признание, тот успех, который утвердил в его душе зародившееся было робкое «сознание собственной силы». Но дело не только в успехе.
Именно портретирование впервые в жизни открыло ему ту радость, то неповторимое наслаждение, которое дает рисование с натуры. Наслаждение вглядываться зорко в человека, сидящего перед тобою и переставшего быть твоим знакомцем Иваном Ивановичем, обратившегося в некий мир, который надо постигнуть в его неповторимости и единственности, таким, каков он есть, пребывающего вне тебя и независимо от тебя, — с тем носом, волосами, глазами, кожей и прочим, чем его природа пожелала отличить от других. Наслаждение понимать эту его особость и другую особость — как некоего предмета, обладающего объемом, формой, массивностью и протяженностью, обращенного к тебе одной своей стороною, но имеющего и вторую, тебе не видную, отбрасывающего тень на окружающие предметы, меняющегося от самой малой перемены в освещении и все-таки остающегося самим собою. Наслаждение, еще ни о чем высоком не помышляя и ничего дерзновенного не замышляя, просто воспроизводить эту неповторимость, стараясь не упустить ни одной драгоценной черты, — переводить на плоский лист бумаги, находящийся перед тобою. Наслаждение видеть, как шаг за шагом, постепенно возникает из-под твоей чудодейственной руки, из полного небытия новый человек, во всем подобный тому, живому, но уже отделившийся от него, да и от тебя самого, вдохнувшего в него жизнь и с чистосердечным недоумением взирающего на сотворенное тобою чудо.