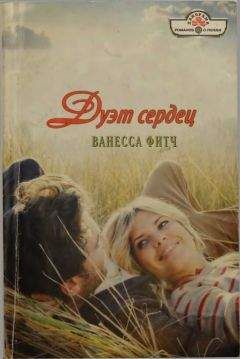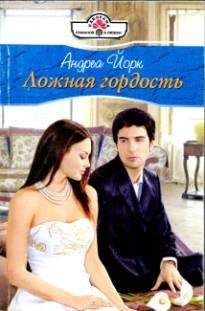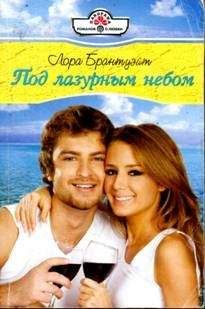Вальтер Беньямин - Московский дневник
Александр Родченко. Фабрика-кухня. 1931 г.
Она очень красивая, только нет чистого черного цвета, который в таких работах часто впечатляет более всего.
12 января.
В этот день я купил в Кустарном музее довольно большую шкатулку, на крышке которой на черном фоне была изображена продавщица сигарет. Рядом с ней тоненькое деревце, а под ним мальчик. Дело происходит зимой, потому что лежит снег.
О снежной поре можно подумать и глядя на тех двух девушек, потому что окошко в комнате, в которой они сидят, выглядит так, как будто на улице мороз. Но сказать точно нельзя.
Эта новая шкатулка была гораздо дороже. Я выбрал ее среди большого числа других; там было много некрасивых: рабские копии старых мастеров. Похоже, что особенно дороги шкатулки с золотым фоном (наверное, они следуют старым образцам), но мне они не нравятся. Сюжет, изображенный на большой шкатулке, должен быть совсем новым, по крайней мере на фартуке продавщицы написано «Моссельпром». Я помню, что однажды уже видел такие шкатулки в витрине очень дорогого магазина на рю дю Фобур Сент-Оноре96 и долго стоял перед ними. Однако тогда я поборол искушение купить одну из них, подумав, что ее должна подарить мне Ася, – или, может быть, что следует приобрести ее только в Москве. Моя страсть питалась сильным впечатлением, которое все время производила на меня подобная шкатулка в квартире Блоха, в которой он жил с Эльзой в Интерлакене97; тем самым я могу оценить, как сильно такие картинки на черном лакированном фоне должны запечатлеваться в детской памяти. Но что было изображено на шкатулке у Блоха, я забыл. – В тот же день я нашел чудесные почтовые открытки, какие я искал, старые массовые изделия времен царизма, главным образом с цветным тиснением, а еще виды Сибири (с помощью одной из таких открыток я пытался мистифицировать Эрнста98) и т. д. Это было в магазине на Тверской, где владелец говорил по-немецки, поэтому пропало напряжение, которым обычно сопровождаются для меня здесь покупки, и я не спешил. Между прочим, в этот день я рано встал и ушел из дому. Потом, около 10 часов, появилась Ася. Она застала Райха еще в постели. Она пробыла у нас полчаса и пародировала актеров и подражала певцу, сочинившему для кабаре песню о Сан-Франциско, эту песню она, должно быть, слышала в его исполнении довольно часто. Я знал эту песню уже по Капри, там она несколько раз пела ее. Поначалу я надеялся, что мне удастся походить с ней, а потом посидеть с ней в кафе. Но было уже поздно. Я вышел с ней, посадил ее на трамвай и отправился дальше один. Этот утренний визит благотворно подействовал на весь день. Правда, сначала, в Третьяковской галерее, я был несколько недоволен. Дело в том, что два зала, увидеть которые я особенно стремился, оказались закрытыми. Зато в других залах меня ждал приятный сюрприз: я шел по этому музею, как никогда раньше не ходил через незнакомое собрание искусства, – совершенно легко и отдавшись радости детского восприятия того, о чем повествуют картины. Дело в том, что музей наполовину состоит из картин русской жанровой живописи; основатель начал приобретать картины в 1830 году и приобретал почти исключительно работы своего времени. Позднее его коллекция была расширена и продолжена почти до 1900 года.
Александр Родченко. Типография газеты «Гудок». 1928 г.
И поскольку наиболее ранние вещи – не считая икон – относятся, похоже, ко второй половине XVIII века, музей дает картину истории русской живописи XIX века. Это была эпоха господства жанровой живописи и пейзажа. То, что я видел, дает мне основания предполагать, что русские из всех европейских народов наиболее интенсивно развивали жанровую живопись. И эти стены, заполненные повествующими картинами, изображениями сцен из жизни самых разных сословий, превращают галерею в огромную детскую книгу с картинками. И еще там было гораздо больше посетителей, чем я встречал во всех других музеях, где я бывал. Достаточно только посмотреть, как они движутся по залам, стоят, группами, иногда вокруг экскурсовода, или в одиночку, увидеть большую непринужденность, полную свободу от тоскливой подавленности редких пролетариев, которых можно обнаружить в западных музеях, чтобы понять: во-первых, что пролетариат здесь действительно начал осваивать буржуазные культурные ценности, во-вторых, что как раз этот музей оказывается ему наиболее близким и привлекательным. Он находит здесь эпизоды своей собственной истории: «Бедная гувернантка приезжает в дом богатого купца», «Революционер-подпольщик, схваченный жандармами»", и тот факт, что подобные сцены изображены совершенно в духе буржуазной живописи, не только не вредит, но делает их для него более доходчивыми. Художественное воспитание (как это очень хорошо дает понять Пруст) осуществляется вовсе не приобщением к «шедеврам». Ребенок или пролетарий, занимающийся самообразованием, с полным правом считает шедевром совсем не то, что коллекционер. Значение таких картин преходяще, но очень основательно, а строгий масштаб применим только к произведениям новейшего искусства, имеющего отношение к нему самому, его классу, его труду. – В одном из первых залов я долго стоял перед двумя картинами Щедрина, гавань Сорренто и другой пейзаж тех же мест; на обеих картинах изображен чудный силуэт Капри, который для меня навсегда будет связан с Асей. Я хотел записать для нее строчку, но я забыл карандаш. И это погружение в изображение в самом начале моего движения по музею определило и настроение моего последующего восприятия. Я увидел хорошие портреты Гоголя, Достоевского, Островского, Толстого. В нижних залах, куда нужно было спускаться по лестнице, было много работ Верещагина. Но они были для меня неинтересны. – Я вышел из музея в очень хорошем настроении. В сущности, я уже входил в него в этом настроении, и это в основном из-за кирпично-красной церкви, стоявшей у трамвайной остановки. Был холодный день, возможно все же не такой холодный, как в тот раз, когда я впервые плутал здесь в поисках музея и не смог найти его, хотя и был всего в двух шагах. И в конце этого дня была еще хорошая минута у Аси. Райх ушел без малого в семь, она проводила его до низу, ее долго не было, а когда она наконец вернулась, я хотя и был еще один, но у нас было всего несколько минут. Что произошло, уж и не знаю: неожиданно я смог посмотреть на Асю с большой теплотой и ощутил ее тяготение ко мне. Совсем недолго я рассказывал ей, что делал днем. Но я должен был уходить. Я протянул ей руку, и она взяла ее обеими руками.
Она готова была говорить со мной дальше, и я сказал ей, что если мы можем точно договориться встретиться у меня, то я готов отказаться от спектакля у Таирова, на который я собирался идти. Но в последний момент она засомневалась, разрешит ли ей врач уйти. Мы договорились, что Ася придет ко мне в один из следующих вечеров. – У Таирова играли «День и ночь» по оперетте Лекока. Я встретил американца, с которым мы договаривались пойти на спектакль. Но от его переводчицы было мало проку, потому что она сидела повернувшись только к нему. И поскольку действие было довольно сложным, то мне пришлось довольствоваться прелестными балетными номерами.