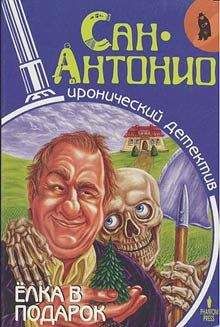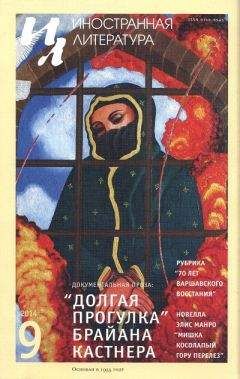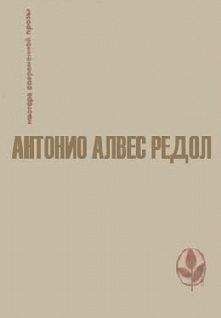Милован Джилас - Беседы со Сталиным
Кто-то выразил сомнение в том, что немцы смогут восстановиться в течение пятидесяти лет. Но у Сталина было другое мнение:
– Нет, они восстановятся, и очень быстро. Это высокоразвитая индустриальная страна с исключительно квалифицированным и многочисленным рабочим классом и технической интеллигенцией. Дайте им двенадцать – пятнадцать лет, и они опять встанут на ноги. Вот почему важно единство славян. Но даже несмотря на это, если единство славян будет существовать, никто не посмеет и пальцем пошевельнуть. – При этом он встал, подтянул штаны, как будто собирался бороться или боксировать, и в порыве чувств выкрикнул: – Война скоро закончится! Через пятнадцать или двадцать лет мы восстановимся и тогда попробуем еще.
В его словах было что-то страшное: ужасная война все еще шла. Но было и что-то впечатляющее в знании им путей, которыми он будет следовать, неизбежности, стоящей перед миром, в котором он жил, и движения, которое он возглавлял.
Остальное из того, что говорилось в тот вечер, едва ли стоит вспоминать. Много ели, еще больше пили, произносили бесчисленные и бессмысленные тосты.
Молотов рассказал, как Сталин ужалил Черчилля: «Сталин поднял тост за тайных агентов и секретную службу, намекая на провалы Черчилля на Галлипольском полуострове во время Первой мировой войны, которые произошли из-за того, что Британия не располагала достаточной информацией». Не без удовольствия Молотов говорил также о странном чувстве юмора Черчилля: «Будучи как-то в Москве навеселе, Черчилль заявил, что заслуживает высшего ордена и внесения в списки особо отличившихся в Красной армии, потому что он научил ее так хорошо воевать благодаря интервенции в Архангельске». В целом можно сказать, что Черчилль произвел на советских руководителей глубокое впечатление как дальновидный и опасный «буржуазный государственный деятель», хотя они и не любили его.
По пути обратно на виллу Тито, который тоже не мог выносить большого количества спиртного, заметил в автомобиле:
– Не знаю, что за чертовщина с этими русскими, что они так много пьют – полное падение!
Я, конечно, согласился с ним и тщетно бесчисленное количество раз пытался найти объяснение тому, почему в высшем советском обществе пьют так отчаянно и непоколебимо.
Вернувшись в город с виллы, на которой жил Тито, я обдумал свои впечатления от того вечера, в который в действительности ничего значительного не произошло: не было точек разногласий, и все же, как кажется, мы были друг от друга дальше, чем когда-либо ранее. Каждый спор разрешался по политическим причинам как нечто такое, чего едва ли можно избежать в отношениях между независимыми государствами.
В конце нашего визита (после обеда со Сталиным) мы провели вечер у Димитрова. Чтобы чем-нибудь его заполнить, он пригласил двух или трех советских актеров, которые выступили с краткими представлениями.
Конечно, зашел разговор и о будущем союзе между Болгарией и Югославией, но он был очень общим и коротким. Тито и Димитров обменялись воспоминаниями о Коминтерне. В общем это была больше дружеская вечеринка, чем политическая встреча.
Димитров в то время был один, все болгарские эмигранты давно уехали в Болгарию – по следам Красной армии. Было заметно, что Димитров устал, находился в апатии, и мы, по крайней мере частично, знали причину, но об этом не говорилось. Хотя Болгария была освобождена, Сталин не разрешал Димитрову возвращаться под предлогом того, что для этого еще не настало время, потому что западные государства воспримут его возвращение как явный признак установления коммунизма в Болгарии – как будто и без этого такой признак не был очевиден! Об этом заходил разговор и на обеде у Сталина. Подмигнув, Сталин сказал:– Димитрову пока не время ехать в Болгарию: ему неплохо и там, где он находится.
Хотя доказательств и нет, уже тогда существовали подозрения, что Сталин препятствовал возвращению Димитрова, пока он сам не устроит дела в Болгарии! Эти наши подозрения еще не подразумевали советскую гегемонию, хотя были и такие предчувствия, но мы смотрели на все это как на необходимое приспособление к мнимым опасениям Сталина, что Димитров в Болгарии слишком скоро может начать все толкать влево.
Но даже этого было значительно и достаточно для начала. Это вызывало целый ряд вопросов. Сталин безусловно гений, но и Димитров едва ли был никем. На основании чего Сталин лучше Димитрова знал, что и как надо делать в Болгарии? Не подрывало ли репутацию Сталина среди болгарских коммунистов и болгарского народа на сильное удержание Димитрова в Москве? И вообще, зачем вся столь сложная игра с его возвращением, в которой русские не отчитывались ни перед кем, даже перед Димитровым?
В политике, более чем где-либо еще, начало всего лежит в моральном негодовании и в сомнениях одних относительно добрых намерений других.
6
Мы возвращались через Киев, и по пожеланию как нашему, так и Советского правительства задержались на два или три дня, чтобы нанести визит украинскому правительству.
Секретарем украинской компартии и премьером правительства был Н.С. Хрущев, а его комиссаром по иностранным делам – Мануильский. Именно они встречали нас, и с ними мы провели все три дня.
В то время, в 1945 году, война еще продолжалась, и можно было высказывать скромные пожелания. Хрущев и Мануильский ратовали за то, чтобы Украина могла установить дипломатические отношения со всеми «народными демократиями».
Однако ничего из этого не вышло. Достаточно скоро Сталин столкнулся с сопротивлением даже в «народных демократиях», поэтому ему едва ли могло прийти в голову способствовать хоть какой-то самостоятельности Украины. А что касается красноречивого и энергичного старого ветерана Мануильского – министра без министерства, – он на протяжении двух или трех последующих лет выступал с речами в Организации Объединенных Наций, а однажды исчез, утонув в безымянной массе жертв недовольства Сталина или кого-то еще.
Участь Хрущева была совсем другой. Но в тот момент никто не мог даже предположить ее. Уже тогда он был в верхушке политического руководства – и находился там с 1939 года, – хотя считалось, что Хрущев не был настолько приближен к Сталину, как Молотов, Маленков или даже Каганович. В высших советских эшелонах его рассматривали как искусного управленца, обладавшего большими способностями в экономических и организационных вопросах, хотя и не автора и не оратора. Он пришел к руководству на Украине после чисток середины 30-х годов, но я незнаком с его ролью в них, да она меня тогда и не интересовала. Однако известно, как возвышались люди в сталинской России – посредством решительности и сноровки в ходе кровавых «антикулацких» и «антипартийных» кампаний. Это особенно относится к Украине, где вдобавок к вышеупомянутым «смертельным грехам» существовал также и национализм.