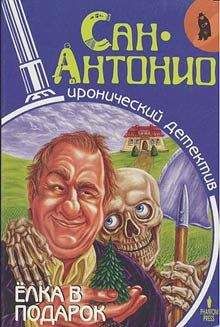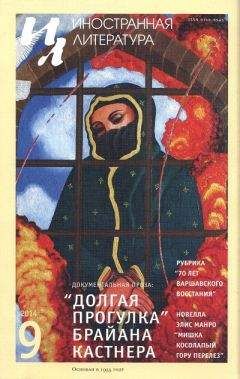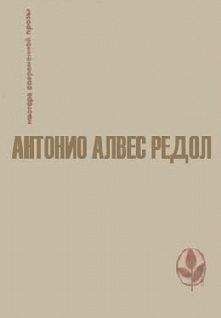Милован Джилас - Беседы со Сталиным
Вскоре после этого, по моем возвращении из Москвы, я, к своему ужасу, услышал о намного более значительном примере сталинского «понимания» в отношении грехов военнослужащих Красной армии. А именно: проходя по Восточной Пруссии, советские солдаты, особенно танковые подразделения, регулярно обстреливали и убивали всех немецких гражданских беженцев – женщин и детей. Сталину об этом доложили и спросили, что делать. Он ответил:
– Мы слишком много учим наших солдат; пусть они проявляют инициативу.
В тот вечер на своей даче он потом спросил:
– А как генерал Корнеев, глава нашей миссии, что он за человек?
Я не стал говорить ничего плохого ни о нем, ни о его миссии, хотя можно было поднять самые разные вопросы, но Сталин сам сделал вывод:
– Бедняга не глуп, но он пьяница, неизлечимый пьяница!
После этого Сталин даже пошутил со мной, увидев, что я пью пиво. На самом деле я не люблю даже пиво. Сталин прокомментировал:
– Джилас здесь пьет пиво, как немец, как немец, – он немец, ей-богу, немец.
Мне совсем не понравилась эта шутка; в то время ненависть к немцам, даже к тем немногим эмигрантам-коммунистам, достигла в Москве своей высшей точки, но я воспринял ее без гнева и без внутренней обиды.
На этом, казалось, спор о поведении Красной армии был разрешен. Отношение Сталина ко мне вернулось на первоначальную стезю сердечности.
И так продолжалось вплоть до разлада в отношениях между югославским и советским Центральными комитетами в 1948 году, когда Молотов и Сталин в своих письмах опять затеяли тот самый спор о Красной армии и «оскорблениях», которые я ей нанес.
Сталин дразнил Тито с явной преднамеренностью – таким образом, что в этом было не меньше злобы, чем насмешек. Он делал это, неблагоприятно отзываясь о югославской армии и лестно – о болгарской. В ту предыдущую зиму югославские подразделения, в которых было много новобранцев, впервые противостоявших весьма серьезным фронтальным атакам, терпели поражения, и Сталин, который, очевидно, был хорошо информирован, воспользовался возможностью, чтобы отметить:
– Болгарская армия лучше югославской. У болгар были свои слабости и враги в их рядах. Но они казнили несколько десятков – и теперь все в порядке. Болгарская армия очень хороша – вымуштрована и дисциплинированна. А ваши югославы – они все еще партизаны, которые не годятся для серьезных фронтальных сражений. В прошлую зиму один германский полк разбил целую вашу дивизию. Полк разбил дивизию!
Чуть позже Сталин предложил тост за югославскую армию, но не забыл к этому добавить:
– Но за такую, которая будет хорошо драться на земле!
Тито воздерживался от реагирования на замечания Сталина. Какого бы колкого замечания Сталин ни делал в наш адрес, Тито молча смотрел на меня со сдержанной улыбкой, а я возвращал его взгляд с чувством солидарности и сочувствия. Но когда Сталин сказал, что болгарская армия лучше, чем югославская, Тито не выдержал и выкрикнул, что югославская армия быстро избавится от своих недостатков.
В отношениях между Тито и Сталиным можно было заметить нечто особое, не выражаемое словами, – как будто оба они испытывали друг к другу неприязнь, но каждый сдерживал себя по своим собственным причинам. Сталин старался никоим образом не обижать Тито лично, но в то же время не переставал втыкать шпильки по адресу Югославии. С другой стороны, Тито относился к Сталину с уважением, как к старшему, но в нем также можно было заметить обиду, особенно по поводу замечаний Сталина об условиях в Югославии.
Однажды Тито высказал мнение, что в социализме возникли новые явления, социализм теперь достигается другими методами, чем в прошлом, что предоставило Сталину возможность сказать:
– Сегодня социализм возможен даже в условиях английской монархии. Революция теперь не должна происходить повсюду. Совсем недавно у нас была делегация британских лейбористов, мы среди прочего обсуждали и это. Да, появилось много нового. Да, социализм возможен даже при английской монархии.
Как известно, Сталин никогда не выражал такую точку зрения публично. Британские лейбористы вскоре получили большинство на выборах и национализировали более двадцати процентов промышленного производства. Тем не менее Сталин никогда не признавал такие меры социалистическими, а лейбористов – социалистами. Я считаю, что он этого не делал главным образом из-за разногласий и столкновений с лейбористским правительством по вопросам внешней политики.
В ходе беседы на эту тему я заметил, что в Югославии, по сути, существует советский тип правления: коммунистическая партия удерживает все ключевые позиции, серьезной оппозиционной партии нет. Но Сталин с этим не согласился:
– Нет, у вас правление не советское – у вас что-то между Францией де Голля и Советским Союзом.
Тито вновь заметил, что в Югославии появляется нечто новое. Но эта беседа осталась незаконченной. Внутренне я не мог согласиться с точкой зрения Сталина и не думаю, что мое мнение отличалось от мнения Тито.
Сталин изложил свои взгляды относительно особого характера текущей войны:
– Эта война не такая, как войны в прошлом; кто оккупирует территорию, тот навязывает ей свою собственную социальную систему. Каждый навязывает свою собственную систему настолько далеко, насколько может продвинуться его армия. По-другому и быть не может. Не вдаваясь в долгие объяснения, он также дал определение своей панславянской политики:
– Если славяне будут едины и будут сохранять солидарность, в будущем никто и пальцем не сможет пошевелить. Ни пальцем! – повторил он, пронзая пальцем воздух, чтобы подчеркнуть свою мысль.
Кто-то выразил сомнение в том, что немцы смогут восстановиться в течение пятидесяти лет. Но у Сталина было другое мнение:
– Нет, они восстановятся, и очень быстро. Это высокоразвитая индустриальная страна с исключительно квалифицированным и многочисленным рабочим классом и технической интеллигенцией. Дайте им двенадцать – пятнадцать лет, и они опять встанут на ноги. Вот почему важно единство славян. Но даже несмотря на это, если единство славян будет существовать, никто не посмеет и пальцем пошевельнуть. – При этом он встал, подтянул штаны, как будто собирался бороться или боксировать, и в порыве чувств выкрикнул: – Война скоро закончится! Через пятнадцать или двадцать лет мы восстановимся и тогда попробуем еще.
В его словах было что-то страшное: ужасная война все еще шла. Но было и что-то впечатляющее в знании им путей, которыми он будет следовать, неизбежности, стоящей перед миром, в котором он жил, и движения, которое он возглавлял.
Остальное из того, что говорилось в тот вечер, едва ли стоит вспоминать. Много ели, еще больше пили, произносили бесчисленные и бессмысленные тосты.