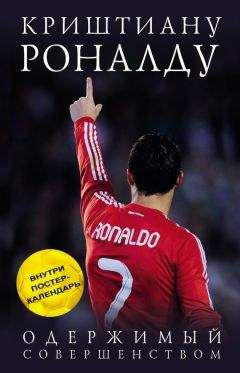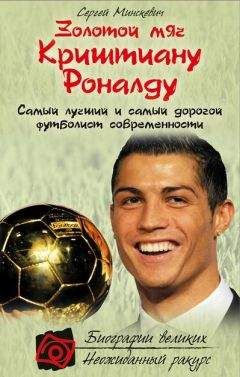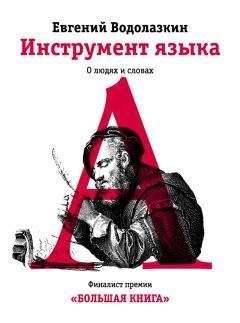Евгений Водолазкин - Дом и остров, или Инструмент языка (сборник)
Геополитика и политика не входили вроде бы в сферу его профессиональных интересов, но без упоминания его внимания и к этой области портрет Лихачева был бы неполным. Он понимал, что политика — это то, что впоследствии превращается в историю, а история, уж конечно, была по его части. В его постоянной готовности озвучить свою гражданскую позицию мне также видится определенная европейская, может быть, даже западноевропейская традиция. Мне запомнилось последнее замечание, адресованное им Кремлю: «Следует иметь в виду, что после распада Союза Россия стала гораздо более северной страной». Очень естественно, что такая фраза прозвучала именно из Петербурга.
Может быть, как раз петербургское гражданство Лихачева обусловило особенности его чувства к Родине. Это было чувство жителя русского европейского — а значит, и мирового — города. Если угодно, это был патриотизм космополита — космополита в высшем, христианском понимании этого слова — любовь к своему как к части общего, любовь через утверждение себя, а не через унижение других. Его любовь к России и русской культуре была глубокой и естественной, не зависевшей ни от современного ему состояния страны, ни от переменчивой моды на слово «патриотизм».
Его любовь никогда не была созерцательной, ее ближайшим синонимом было неоднократно уже здесь употребленное слово «ответственность». Его доброта не была благодушием (пусть такое состояние души и достойно в высшей степени), она была благотворительностью, потому что непременно оказывалась связанной с действием. Вопреки расхожему представлению об ученых, Лихачев был человеком волевым и вполне практическим. Была ли это лагерная закалка или длительный опыт советской жизни, но он умел достигать поставленной цели. Он хлопотал о квартирах для сотрудников, устраивал их в больницы и — что было совсем небезопасно — ограждал от преследований.
Это была особая, сейчас, возможно, не всем уже понятная, благотворительность советского времени, являвшаяся, скорее, родом заступничества. Для себя, насколько мне известно, он ничего не просил. Человека его возраста, опыта и убеждений трудно было как-либо облагодетельствовать — так же, собственно говоря, как и чего-то лишить. Это почти диогеновское его качество, раздражавшее прежнюю власть, было оценено властью новой. Какое-то время Дмитрий Сергеевич был председателем Фонда культуры, но, ввиду определенного разочарования, постигшего его на этом посту, проекты, сочетавшие слова «чиновник» и «деньги», стали восприниматься им не без скепсиса. И при жизни Лихачева, и после его смерти таинственная энергия его имени привлекала многочисленных предприимчивых людей, способных конвертировать метафизическое в материальное.
Стертая метафора «жизненный путь» хороша тем, что передает некую устремленность пережитого, не делает его механической суммой событий. Мне кажется, что, будучи христианином, Дмитрий Сергеевич рассматривал свой путь как движение вертикальное, как дорогу к небесной родине. Может быть, поэтому для него так важны были оценка и осмысление этого пути, предпринятые в «Воспоминаниях», одной из самых важных его книг.
Из того многого, что случилось от него услышать, он записал, как кажется, незначительную часть. Его «Воспоминания» посвящены, за небольшими исключениями, событиям первой половины века. Почти ничего не написано им ни о его «звездном» периоде, ни о многочисленных встречах со знаменитостями. Вероятно, чувствуя ограниченность своего времени, он спешил сказать о главном. Он спешил записать также то, чему свидетелей уже почти не осталось, и, я думаю, мало кто подходил для свидетельства об уходящей эпохе больше, чем он.
Не все живущие в то или иное время являются его свидетелями. Так, к свидетелям не относятся прежде всего те, кто по отношению к своему времени не сумел соблюсти дистанцию. А он сумел. Тон его книги не столько обличающий, сколько свидетельский. Это спокойный тон человека, способного видеть не только окружающее, но и нечто за горизонтом. Написанные от первого лица, «Воспоминания» в большой мере созданы «за» других: за полузабытых ныне филологов, философов, поэтов. Он извлекал из небытия тех, для кого его память оставалась единственным шансом. В определенном смысле эта книга написана за всех «невеликих» его современников, безгласно враставших в родную почву.
Он свидетельствовал не только о людях. В сферу его свидетельской ответственности входили цвета, запахи, звуки, на фоне которых все эти годы творилась история. Они не просто обрамляли историю, они были самым непосредственным и реальным ее планом, который по странности и становится первой жертвой забвения. За скрупулезными описаниями «Воспоминаний» открывается иное измерение, где свидетельство об обычных, казалось бы, людях и вещах обретает свой самый глубокий и радостный смысл: «Бог сохраняет всё».
Однажды я спросил у него, не собирается ли он писать продолжение «Воспоминаний». Он ответил, что хотел бы, но… (здесь следовал неопределенный жест, выражавший, возможно, огромную его занятость, а возможно — и неуверенность в том, что отпущенное ему время окажется достаточным). Результатом этого разговора явился план книги воспоминаний-интервью, в которой он отвечал бы на вопросы человека другого поколения: эта разность поколений создавала бы некое поле, в котором прошедшее обретало бы дополнительные оттенки. План этот подкупал и своей временной обозримостью: предполагалось использовать диктофон. Принимая вопросы и диктофон (его предоставил Фонограммархив Пушкинского Дома), Дмитрий Сергеевич деловито уточнил особенности звукозаписывающего устройства, и я подумал, что создание книги — вопрос полугода.
Из этого ничего не получилось. Я уже не помню сейчас, с какими словами примерно через месяц он вернул диктофон, но дело, в общем, и не в этих словах. Только спустя время я подумал, насколько странно было бы представить его диктующим на магнитную пленку. Допускаю, что он мог бы рассказать так о чем-то постороннем, но не о собственной жизни. Он был человеком письменного текста и всерьез доверял только бумаге. Это особое письменное начало проявлялось во всем — от его знаменитых книг до сугубо частных записных книжек и записок домашним. Подобная преданность письменному тексту была характерна, кажется, только для Набокова, даже интервьюерам отвечавшего исключительно пером. В конце жизни Дмитрий Сергеевич имел компьютер, но не пользовался им, предпочитая свою старую машинку «Ундервуд», а еще чаще — авторучку. Большая часть из того, что хранится в его огромном архиве, им написана.