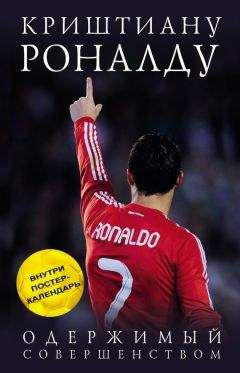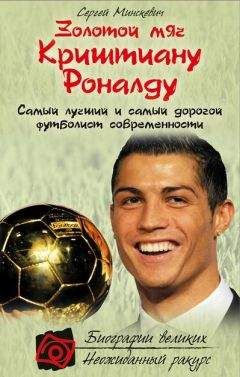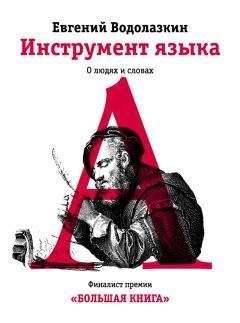Евгений Водолазкин - Дом и остров, или Инструмент языка (сборник)
Одним из проявлений этого темперамента было его особое чувство ответственности. Подобно запавшей клавише фортепиано, слово «ответственность» перестало сегодня звучать, его глухой стук не передает той необъятной энергии, которой это слово наполнял Лихачев. Если определять ответственность как расширение человеком пределов своего «я», то логично предположить, что всякая ответственность начинается прежде всего с ясного, почти пронзительного осознания собственного «я». Иными словами, всерьез понятая ответственность как рождается из личного начала, так и присуща может быть только Личности. Пространство же, охватываемое этим «я», зависит от масштаба человека.
Семья — Пушкинский Дом — Город — Страна — Мир. Так, несколько упрощая, можно было бы обозначить сферы ответственности Лихачева. Это следование выстроено как бы по возрастающей, хотя на деле все эти сферы существовали для него одновременно. Они дополняли и оттеняли друг друга, а порой и сливались.
Всё начиналось с Дома. Круг семьи был для Лихачева главным кругом не только в том смысле, в каком для каждого важна его семья. Здесь можно говорить о чем— то большем. Разумеется, люди его поколения к семье вообще относились по-особому. В годы репрессий семья оставалась едва ли не единственной сферой, где общение было безопасно. Возможно, что отношение к семье бывшего соловецкого узника формировалось и этим. Но внешняя причина — как бы она ни была важна — никогда не станет решающей без особого внутреннего строя, без какой-то особой изначальной склонности. Только этим можно объяснить то, что бо́льшая часть его личного общения была связана с домашними, что именно в семье находились его самые близкие друзья. Следствием этого внимания было, как мне кажется, то, что все его домашние — люди очень талантливые, жившие своей отдельной жизнью и имевшие собственные семьи, — оставались в первую очередь его детьми, внуками, правнуками.
Он и любовь к нему наполняли собой всё существование живших с ним. Эти слова, так часто говорившиеся о его домашних, сейчас мне почти страшно писать. События последних лет наполнили их трагизмом. Воспоминания дочери Дмитрия Сергеевича Людмилы Дмитриевны открываются строками: «Я всегда думала, что не переживу папину смерть, — и вот уже второй год, как его нет, а я всё еще не только живу, но продолжаю ходить в Русский музей, что-то в нем делать, даже читать какие-то доклады, как и предыдущие сорок лет моей работы там. Может быть, меня поддерживает в этом мама, которая, слава Богу, жива, хотя после папиной смерти очень изменилась»[3]. Зинаида Александровна умерла в апреле 2001 года. Три с половиной месяца спустя умерла Людмила Дмитриевна.
Семейное отношение было им перенесено на Отдел древнерусской литературы Пушкинского Дома (по первоначальному наименованию его до сих пор называют Сектором). Нередко высказывавшееся мнение о том, что долгие годы Сектор был единой семьей, можно было понимать в самом непосредственном фамильном смысле, без приторного идиллического привкуса. В нем, как в любой семье, бывали свои радости и неприятности, и это была его семья. Роль его как своего рода pater familiae выражалась хотя бы в том, что в Секторе давно уже не было ни одного сотрудника, которого бы он не пригласил на работу лично. Сейчас мне как-то странно осознавать, что почти четырнадцать лет он был моим начальником. Ни слово «начальник», ни используемое в академическом просторечии «шеф» к нему никогда не применялись.
Одному из наших сотрудников Лихачев однажды сказал: «Вы не понимаете, что живете на острове». Это был действительно остров, куда можно было причалить и работать, не обращая внимания на бушующие стихии. Все обитатели этого острова до сих пор готовы ответить за любую строчку, написанную ими и двадцать, и более лет тому назад. На гражданской панихиде кто-то из просвещенного начальства назвал Лихачева главой Лаборатории древнерусской литературы. Несмотря на негуманитарный оттенок слова «лаборатория», такое обозначение можно и принять. В определенном смысле речь действительно могла идти о лаборатории по восстановлению в общественном сознании литературы Древней Руси. Из забвения на свет Божий выходили сотни неопубликованных текстов XI–XVII веков. Венцом этого грандиозного замысла Лихачева явилась двадцатитомная Библиотека литературы Древней Руси, последние тома которой выходят сейчас из печати.
Сектор был не только научным сообществом. В нем протекала радостная и по-своему беззаботная жизнь с выездными заседаниями в других городах, с поздравлениями, капустниками, застольями. Дмитрий Сергеевич вообще очень любил пиры и обдумывал в их организации каждую деталь. В годы бессмысленной антиалкогольной кампании он настоял на проведении банкета в честь своего 80-летия в интуристовском ресторане, где спиртное не было под запретом. Дело, разумеется, было не в спиртном (к нему он был вообще равнодушен), а в чувстве собственного достоинства. Если при его жизни мы могли питать иллюзии относительно нашей собственной роли в исключительной атмосфере, царившей как в Секторе, так и вокруг него, после ухода Дэ Эса всё стало ясно.
Он создавал атмосферу храма, и сами собой обозначались вещи, которые в храме делать неприлично. Их и не делали. Это же можно отнести и к нескончаемому потоку посетителей Лихачева, состоявшему из людей весьма и весьма разных. Можно было наблюдать, как они подтягивались в его присутствии. Порой складывалось впечатление, что в его кабинете они открывали в себе неведомые им самим запасы благородства или несвойственные прежде лексические пласты. То, как они пытались говорить с ним его языком, было подобно первым послеоперационным шагам — трогательно и обнадеживающе.
Дмитрий Сергеевич Лихачев был младше Пушкинского Дома всего на год. На его памяти писалось последнее стихотворение Блока, посвященное нашему Дому, хотя сам Лихачев — сейчас трудно поверить, что было и такое время, — в нем тогда еще не работал. Впрочем, и Блок кланялся не нынешнему пушкинодомскому зданию: «с белой площади Сената» он видел колонны здания Академии наук. Для ученых, входивших в Пушкинский Дом двадцать, тридцать, а то и со рок лет назад, Д.С.Лихачев давно уже являлся легендой. После Пушкина он стал, пожалуй, главным символом этого Дома.
Все мы располагались в общем с ним петербургском пространстве, но только, в отличие от нашего, его пространство обладало невероятной глубиной времени. Всякий дом в городе мог кивнуть ему, как давний знакомец, потому что у них был свой особый тет-а-тет, длившийся многие десятилетия. Так, проезжая мимо Филармонии, он мог неожиданно вспомнить, что в этом доме происходило судилище над митрополитом Вениамином: под окнами стояли сотни людей, певших «Спаси, Господи, люди Твоя». Глядя на мраморную колонну пушкинодомского конференц-зала, он видел призрак каждого, кто, растаптываемый «проработчиками», опирался на нее, не в силах стоять на ногах. Из окна его кабинета было видно университетское общежитие на Мытнинской набережной (ныне не существующее). Он помнил, как медленно и по-особому трагично горел этот дом во время блокады. Медленно — несколько дней — он горел потому, что бомба разорвалась на крыше, и огонь шел сверху вниз.