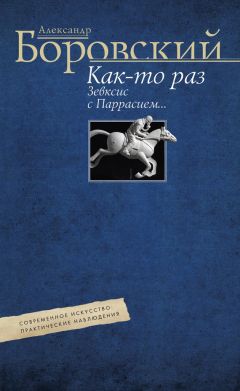Иосиф Бакштейн - Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве
Б. Там сознательно обрезаны все семантические связи.
М. То есть это вещи в себе.
Б. Но тогда они должны быть контекстуальны.
М. …В серийности, может быть?
Б. Ну, в каком-то, может быть, историческом отношении, деятельности круга лиц, какого-то направления и т.д.
М. Но если мы сюда вводим направление, то утрачиваем самое главное, потому что, мне кажется, это какие-то боковые проявления, а не генеральная линия. Здесь все время идет речь о пустом месте философствования, которое ухвачено в этих работах через наполнение его техницизмами. Здесь психическое опережает дискурсивное. Их энергетика давит сначала на какие-то психические глубинные слои, и они не дают возможности эстетической артикуляции. Работа как-то так хитро сделана, что вроде выглядит нормальной.
Б. Здесь вся интрига строится не на их самоценности, а на ценности в контексте. Либо вещь ценна сама по себе как прекрасный предмет, который мы знаем из классического искусства… Либо наоборот: чистая контекстуальность – вещь совершенно невидимая, непонимаемая, чисто нейтральная. Единственная возможность к ней отнестись – это актуализировать контекст, фон.
М. Но при такой попытке мы натыкаемся на маркировку этой вещи. Лично я не могу говорить конкретно о каждой из них отдельно, но могу объединить в понятии этического концептуализма. Может быть, через эти работы происходит и очень любопытный процесс традиционализации авангарда?
Б. Каким образом? В чем традиция?
М. Но ведь недаром тебе пришло на ум сравнение с предметами красоты.
Б. Но красивые предметы как бы самоценны, самодостаточны. А традиционность – это же метафора. Они же в этом смысле являются как бы метафорой авангардистской вещи вообще. То есть они могут взять на себя функцию такой метафоры и уже в этом качестве как знак нетрадиционности авангарда по отношению к классическому искусству, где были красивые вещи, а в авангарде вещи не прекрасны и не безобразны, а просто как бы неожиданны, интересны и совершенно контекстуальны…
М. А в этом последнем смысле я как раз и хотел бы снять контекстуальность данных вещей, потому что они мне кажутся самодостаточными, замыкающими на себя. Они тоже обрезают контексты.
Б. Если обычные авангардные вещи активно взывали к контексту, создавали его, провоцировали…
М. Да, работа с конвенцией была очень активная, а здесь – наоборот. Они отрезают уже возможные фоны…
Б. И в качестве «вещи в себе» отражают уже всю эту авангардную контекстуальность.
М. Да, это очень интересная вещь. Это как бы такие черные дыры в каком-то смысле.
Б. …Авангард в своей истории не мог пройти мимо таких вещей, эти черные дыры должны были возникнуть. Ведь обычно искусство имеет функцию изображения мира – искусство классическое. Авангард же начинает играть в эту функцию, он как бы ее разрушает, созидает, происходит какая-то сложная история…
М. Но с другой стороны, авангард движим и какой-то своей собственной сущностью, которая вдруг и обнаруживается, формализуется в виде этих черных дыр.
Б. Но я хотел довести до конца эту аналогию с функцией изображения. Как трансформируется функция отображения внешнего мира в авангарде – это вопрос совершенно особый и открытый, но сейчас очевидно, что моделирующая функция этих новых вещей напоминает – я уже несколько раз использовал этот образ – лейбницевскую монаду, которая как бы отражает весь мир, хотя и не имеет окон. Действительно, она такая как бы «вещь в себе».
М. Но все-таки, в отличие от монады, которая отражает весь мир, эти вещи обрезают возможность любых отражений. Ведь монада и «вещь в себе» – это разные вещи. «Вещь в себе» – это дорецептивный уровень бытия. Монада обладает какой-то рецептивностью в смысле отношения к ней сознания и, следовательно, обладает структурностью.
Б. Да, а вещь в себе – это как бы Бог, Бог – это вещь.
М. Да, и Он апофатичен, Он ни к чему не относится и ничего не отражает. То есть к Богу как к «вещи в себе» от нас может идти только словесное «не». И в каком-то смысле получается так, что сама вещь тоже с частицей «не» – не-вещь. Тут-то и вылезают какие-то чисто этические моменты, плоскости. При этом остается пустота, которую можно заполнить какими-то техническими отношениями сохранности, как эстетика.
Б. Здесь вот что требует разъяснения. Какие-то обычные содержательные вещи, допустим, сорокинские штуки, вызывают почти с физиологической неизбежностью какую-то нравственную реакцию, например отношения и т.п. Теперь я тебя спрашиваю: в каком смысле мы говорим об изменении этой нравственной реакции в случае чистых, пустых вещей.
М. Это и есть самый интересный момент. Здесь этика становится исследуемым моментом, а инструментами ее исследования – эти «пустые» вещи. Ведь ты определяешь, что реакция на сорокинские вещи является нравственной. Ты это определяешь, но не исследуешь ее, она у тебя спонтанно возникает. А здесь этика может быть исследуема как структура.
Б. Но для того чтобы нечто исследовать, это нечто должно быть дано в своей естественности и натуральности.
М. Но ведь по замыслу нашего диалога так и получается. В конце концов, «этический» смысл этих «пустых» вещей скорее всего может манифестироваться именно и только через наш диалог. Дискурс как предмет изображения относительно обсуждаемых нами вещей снят, закрыт, но относительно нашего диалога вокруг этой «снятости» дискурс пока открыт.
Б. Но мне кажется, надо назвать все основные грани и переходы между эстетическим и этическим горизонтами. Их, собственно, и не так много… То есть сколько бы мы ни говорили… мы всегда предполагаем и усматриваем какую-то нравственную позицию, нравственный аспект позиции художника. Все три компонента – и автор, и произведения, и зритель – наделялись нравственным аспектом. Но что явилось предметом нашего сегодняшнего обсуждения?
М. Насыщен ли наш диалог какими-то этическими, нравственными интенциями?
Б. Несомненно.
М. Но нам они непонятны.
Б. До конца мы их, безусловно, не можем отрефлектировать. Но все-таки надо хотя бы как-то намекнуть, навести слушателей и нас самих на переход, то есть повысить степень определенности этого перехода от эстетического к нравственному аспекту относительно этого класса вещей, этих черных дырок, о которых мы говорим. Черная дыра – это совершенно особый мир, в отличие от обычного, физического, со своей пластикой и силовыми полями. Там ведь совершенно непонятно, что происходит. И возможно, что какие-то новые нравственные импульсы они в себе и содержат…
М. Мы видим возникновение только этической плоскости как таковой аналогично возникновению плоскости языковых отношений и затем ее исследования в классическом концептуализме. Но на этой плоскости отношений, на этом горизонте не стоит монумент, на котором написаны слова «справедливость», «честность», «добро», «красота».
Б. Да, этого нет. Но поскольку мы сказали, что получается как бы чистая метафора авангардности, неклассичности, тогда это является и метафорой этической позиции художника.
М. То есть черные дыры – это такие обобщающие и целиком вмещающие в себя абстрактности отношений типа «авангардность», «этичность» и т.д. А на горизонте – это, правда, смешной образ, – но в данном случае на горизонте этих вещей находимся мы с тобой, то есть на горизонте тех вещей, которые мы обсуждаем.
Б. Тут пока все получается, потому что, действительно, это вещь в себе – мера априорности. Это априорная структура, априорное условие нравственной позиции, априорное условие различения добра и зла, а не само различение, не содержательный акт.
М. Дело в том, что априорность выступает по отношению к вещи в себе как вектор, направленный в сторону доаприорности, потому что постаприорность (а не апостериорность) – все-таки категории созерцания времени и пространства, а вещь в себе – еще до априорности, это то, на что опирается метод априорного. И поэтому Кант уже выводит пространство и время как априорные созерцания, в которых обнаруживаются, а точнее – пребывают вещи в себе. Но по отношению к априорности они «до».
Б. Но тут еще надо иметь в виду, что все эти вещи, предметы, нами обсуждаемые, каким-то образом согласуются с абсурдистской традицией. Абсурд ведь выполняет функцию создания границ. Он как бы обозначает то пространство, где нечто невозможно.
М. Но абсурд рассчитан на определенные реакции: либо на смех, либо на девальвацию, страх и т.д., и в основном на вызывание ощущения недоумения.
Б. Если все предшествующее искусство содержало в себе нравственную предпосылку – даже в качестве отрицания, то теперь мы имеем дело с вещами, в которых принципиально не видна нравственная позиция, и поэтому нравственно ориентированный ум зрителя становится в тупик: он видит вещь, которая ему в этом смысле непонятна и невидна.