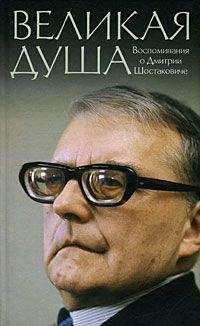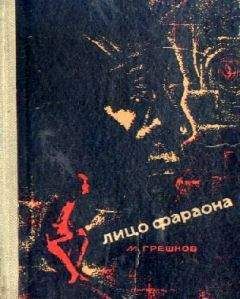Ваан Тотовенц - Жизнь на старой римской дороге
С неба упало три яблока…»
17Было в той стране, где мы родились, поколение детей, которое выросло позади бань, на неостывших кучах золы.
На языке турок это было поколение кюльхан беев — князей зольных куч, — ни у кого из них не было отца, как у Христа из Назарета, родившегося за тысячу девятьсот тридцать лет до нас, потому что в наш век не сыскался бы святой Иосиф, готовый взять в жены деву с младенцем на руках. «Святые девы» оставляли своих младенцев, едва поднявшихся на ноги, среди куч золы, позади бань, и те росли себе без Иосифов и без матерей.
Зимой они разгребали золу, зарывались в нее, спасаясь от жестокой стужи.
Князья зольных куч жили впроголодь, полуголые, слонялись вокруг мечетей, хватая оплеухи.
Питались они на помойках объедками арбузов, дынь, всякими очистками, — кто был посильнее, добывал более вкусную еду: один из лап бездомной кошки кусочек мяса вырвет, другой — баранью голову из мясной лавки стащит, третий — яйцо на каком-нибудь базаре…
В полдень князья сходились за казармой, — туда солдаты сливали остатки хараваны[33]. Случалось, что нападали на телеги крестьян, привозивших в город продукты. Избиваемые в кровь, разживались зерном или мукой. Особенно дружно бросались на телеги, груженные сахарной свеклой, потому что могли испечь ее в свежевысыпанной золе.
Не было никакой организации — государственной, религиозной, общественной или благотворительной, которая заботилась бы об этих несчастных.
Своих покойников они хоронили сами, чуть поодаль от зольных куч, разбивая друг другу головы при разделе лохмотьев.
Раз в год хозяева бань, согласно закону, убирали все зольные кучи. В дни таких расчисток рабочие натыкались не на один десяток трупов.
* * *Один из князей зольных куч был Али, красивый, высокий, хорошо сложенный и сильный малый.
Али исполнилось двадцать пять лет, когда отец мой поставил его сторожем в нашу усадьбу. Князья зольных куч частенько наведывались в нашу усадьбу, но со вступлением Али в новую должность набеги их прекратились. Али сам снабжал свою ораву фруктами и овощами, не злоупотребляя, однако, доверием отца.
Отец был доволен им. Усадьбу таким образом уберегли от разорения.
Али был человек верный, честный и смелый. В драке он брал верх даже над полицейскими.
Поступив к нам на службу, он сразу же сменил одежду, выкупался (третий раз в жизни), побрился, постригся, повязался широким длинным зеленым поясом, заткнул за пояс нож и взял в руки длинную и толстую, как посох, палку.
Но люди все равно не забывали о его прошлом и при каждом удобном случае бросали ему в лицо презрительное:
— Кюльхан бей…
Как-то пришел Али к моему отцу, смущенно стал перед ним и сказал:
— Хаджи-эфенди, думаю в другой город податься, здесь все знают, что я кюльхан бей.
И грубый этот человек, никогда в жизни не плакавший, вдруг зарыдал.
— Не обращай внимания, Али, — сказал отец, — через несколько лет все забудут, что ты был кюльхан бей, ты станешь человеком… — и вложил ему в руку несколько серебряных меджидов.
Али денег у себя не держал, все, что дарил ему отец, он отдавал на хранение старой моей тете. Никаких потребностей, кроме как поесть и одеться, у него не было: ел у нас, носил купленную отцом чуху, а тетя снабжала его табаком из трапезундских запасов отца.
Али заботился о бывших друзьях. Кого определит в слуги, благодаря знакомствам, приобретенным в нашем доме, кого в кучера, нескольких пристроил к лошадям. Старался помочь даже тем, кто удирал в горы разбойничать.
Поговаривали, что эти бандиты спускаются иногда с гор и навещают Али в нашем имении, но мы в это не верили.
Городские власти несколько раз тайно засылали к нашей усадьбе полицейских, чтобы изловить бандитов, дружков Али. Но куда там! Ведь достаточно было малейшего знака на воротах, чтобы они прошли мимо. Ну а раз уж спустились с гор — с пустыми руками не любили уходить: грабили первого встречного и удирали.
Мать все опасалась, что отец когда-нибудь нарвется на них.
— Пораньше возвращайся из усадьбы, смотри, ограбят тебя, часы и деньги оставляй дома.
— Да будет тебе, жена, — отвечал отец, — они этого не сделают.
Но они так и сделали: отец однажды вернулся домой ограбленным. Мать напомнила, что предостерегала его..
— Темно было, даже по голосу не узнали меня.
— Так тебе и поверила я.
— Узнали бы — не стали трогать.
В полночь отец послал за Али.
Тот влетел, запыхавшись. Отец рассказал ему, как было дело. Али помрачнел, вышел, не проронив ни слова.
Утром чуть свет неизвестно кто бросил в окно спальни отца часы, пальто и деньги.
К полудню Али зашел к отцу, потупив глаза.
— Хаджи-эфенди, они не признали вас, — сказал он.
— Голодные люди, — ответил отец, — не осуждаю.
Как-то Али явился к отцу, явно одолеваемый какими-то мучительными мыслями. Вид у него был такой, точно он хотел сообщить отцу что-то важное, но не решался.
— В чем дело, Али? — спросил отец.
— Хаджи-эфенди, хочу сказать что-то, да боюсь, засмеете еще.
— Говори, не стесняйся, смешно будет — посмеемся, чего мнешься?
— Хаджи-эфенди, решил босиком до Мекки дойти, стать хаджи и вернуться. Обетом связал себя.
— Хорошее дело задумал, Али. Только зачем босиком?
— Чтобы заветное мое желание непременно исполнилось..
— Ну что ж, доброго тебе пути, — заключил отец.
Али еще что-то хотел сказать. По-видимому, именно то, что его с самого начала смущало.
— Хаджи-эфенди, да буду я прахом у ног твоих… — взмолился Али.
Отец понял.
— Говори, Али, я тебе многим обязан.
— Хаджи-эфенди, дал бы ты мне два золотых, ведь в дороге все может случиться.
— Двух золотых не хватит, — сказал отец, — я тебе дам пятнадцать.
Али нагнулся и поцеловал край его халата.
В тот же день он объявил о своем намерении. По исламскому обычаю, единоверцы Али должны были проводить его в путь с подарками.
Утром, когда отец отсчитал и вложил в руку Али пятнадцать золотых, мать огорченно вздохнула, уязвленная в своих религиозных чувствах.
— Соберись армянин в Иерусалим, небось ничего не дал бы, — бросила она.
— Я свое дело знаю, — ответил отец, — пусть он только вернется, посмотришь, сколько заработаю!
Через несколько дней, когда Али пустился в путь, в лохмотьях, босой, с длинным сучковатым посохом, многие из его единоверцев вышли пожелать ему доброго пути. Однако подарков он не получил: его социальное происхождение помешало проявить религиозные чувства даже единоверцам.