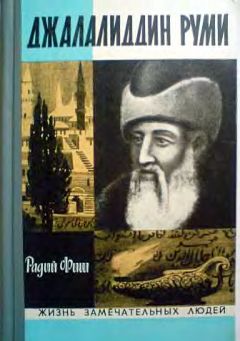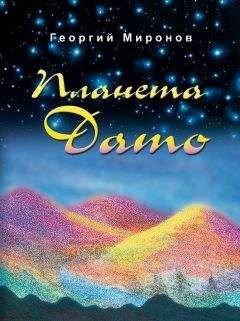Радий Фиш - Джалалиддин Руми
Он славил любовь к женщине, ибо здесь, в любви к себе подобному, человек познавал собственную сущность и человеческую сущность вообще.
И пляска, в которой кружился седобородый старец, оглашая ночную тьму восторженными стихами о слиянии с любимой, была не блаженным слушанием суфиев, а самозабвенным единением в любви со всем миром.
–Он остановился, тяжело дыша. Огляделся, медленно возвращаясь к действительности.
Свеча догорала. За стенами все еще стояла глухая ночь. А ведь прежде, бывало, мог он кружиться в самозабвении до утра и, передохнув немного, снова плясать до полудня, а то и до вечера.
Никого не приходилось ему в жизни стыдиться. А теперь вот испытывал он стыд перед собственным телом. Стыд, подобный тому, который испытывает всадник, когда цель достигнута, перед дрожащим, загнанным конем, которого он безжалостно хлестал в своем стремлении к этой цели.
С трудом, на ватных дрожащих ногах сделал он шаг. От тени отделился Велед, почтительно поддержал отца под руку. Это он, Велед, услышав взволнованный голос Джалалиддина, взял ребаб и вышел к нему в полутемную залу.
Отец глянул на него, не узнавая. Да и трудно было представить себе, что пожилой мужчина в круглой шерстяной шапочке, наспех обернутой чалмой, в коротком разрезном кафтане с вышитыми на обеих сторонах груди изображениями не то двух пар сердец, не то кипарисов, возносящихся к сводам, на которых начертаны священные письмена, что этот пегобородый мужчина, который, зажав под мышкой ребаб, бережно поддерживает его под руку, и есть его сын Велед, зачатый той далекой ночью в Ларенде, когда, подталкиваемый по обычаю кулаками в спину, он вошел в брачные покои и лег на ложе незабвенной Гаухер-хатун.
–Той ночью, от которой его теперь отделяло полвека, мелькнувшие, как полмига, он, оглушенный счастьем, не думал ни о стихах, ни об истине, ни даже о любви. Бессознательно совершив омовение, вслед за Гаухер повторил он все слова, что должно было повторить согласно шариату первой брачной ночью, и склонился над нею, как тростник под ураганным ветром клонится к озерной глади. Круглое лицо, зардевшееся, будто восходящая луна, гибкая шея, манящая беззащитной покорностью, угадывавшиеся под одеждой белоснежные ангорские ягнята грудей с призывно торчащими рожками сосков, податливое лоно, таящее могущество творца, одухотворенность, просвечивавшая в каждом изгибе тела, — во всем была такая зовущая готовность, такая неодолимая сила слабости, что мгновенная вспышка исступления, подобная тем, которые озаряли его в уединении с природой, но во сто крат яростней, опалила его, закружила и понесла. Под полуденным зноем этого исступления гладь, скованная прохладой предутреннего ожидания, закипая, взметнулась ему навстречу, волны захлестнули его, растворив без остатка, как растворяет море пролившийся ливень.
–Вспышка самозабвения, в которой был зачат Велед, что переживет его лет на сорок, была предвестником того самозабвения в любви к миру, которая, спалив его дотла, родит поэзию, что переживет его на столетия. Но ни той ночью в Ларенде, ни много позже до самой встречи с Солнцем Его Жизни он не подозревал об этом.
И стихи о пиршестве любви, которые зазвучали в нем теперь, при воспоминании о Гаухер, он сложил не в день своей собственной свадьбы, а в день свадьбы Веледа, когда ему снова примнилось, будто в жизни сына может повториться его собственная, но без душевной немоты, терзавшей его в юности.
Велед, как некогда он сам, женился на дочери отцовского соратника. Ее звали Фатимой, по имени дочери пророка. И в самом ее имени Джалалиддину мнился скрытый смысл, ибо ее отца, старейшину цеха золотых дел мастеров Фаридуна Саляхаддина, он почитал за величие души человеком необыкновенным. Крестьянский сын Саляхаддин не получил образования, но обладал безошибочным чутьем правды-справедливости, которое нельзя приобрести ни в одном медресе на свете. Джалалиддин называл его «светом истины, опорой сердец». И, не желая на старости лет заниматься ничем, кроме того, что мог он выразить в стихах, поставил его шейхом над всеми своими учениками и последователями.
В его дочери Фатиме он не чаял души. Сызмальства взял ее к себе в дом. Сам воспитывал. Учил грамоте, пониманию мира и тратил на нее столько времени и сил, что повергал в изумление даже близких.
Сразу же после женитьбы сына Джалалиддин удалился в пригородные сады Филубада, чтобы продолжить «Месневи», но первым делом написал оттуда письмо Веледу. Содержание письма он просил его держать в тайне, ибо только тому, кто хранит познанное, даруется знание скрытого, а за словами отца стоит сокровенное знание его сердца.
«Сегодня, — писал сыну Джалалиддин, — в день обручения твоего завещаю тебе хранить Фатиму-хатун, как свет очей и сердца моего, ибо вручена она тебе для испытания тебя. Надеюсь, что вольно или невольно не будешь ты никогда несправедлив к ней и не оставишь попечением своим. Чтобы сохранить в чистоте чело отца твоего, твое чело и честное имя потомков своих, да будет каждый твой день с нею днем свадьбы и каждая ночь — первой брачной ночью. Старайся уловить ее силками души и сердца и не полагай добычей, не нуждающейся более в уловлении, ибо подобное убеждение есть дело верхоглядов, о коих сказано, что видят они лишь поверхность мира…»
–Велед довел его до миндера. Бережно усадил на сиденье. Принес новую свечу. Запалил ее от догоравшей. Поставил в светильник.
Джалалиддин жестом отпустил его. И молча проследил взглядом, как Велед все так же благовоспитанно ушел к себе в келью, где, не смыкая глаз, дожидалась его возвращения Фатима-хатун.
Жена Веледа была на шестом месяце, и по ночам ее терзал страх. Двенадцать детей родила она мужу, и все они умерли — кто сразу после родов, кто через шесть, кто через десять, месяцев, кто через год. В отчаянии зареклась она насыщать плотью своей ненасытную землю: затяжелев, делала все, чтоб избавиться от плода. И на сей раз стала нарочно поднимать тяжести, плясать ночи напролет на собраниях женщин, пить зелья. Но все оказалось бесполезным.
Джалалиддин знал об этом. И когда минули три месяца, решился наконец поддержать невестку. Он знал, что она верит ему, а вера способна разбудить силы тела, о коих оно не подозревает.
Через почтенного мюрида Татари велел он передать Фатиме-хатун свое благословение и сказать, пусть сохранит ребенка, ибо был ему знак, что родится он и будет жить, а он, Джалалиддин, хотел бы земными глазами увидеть внука.
Из любви к свекру и наставнику своему, веруя во всеведение его, как веруют в бога, Фатима-хатун решилась: раздала милостыню нищим, велела принести в жертву баранов. И принялась ждать с терпением и любовью. Но страхи по ночам не отпускали ее, хоть она старалась справиться с ними и никому не подавала виду.