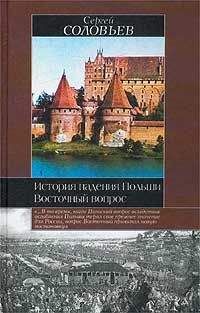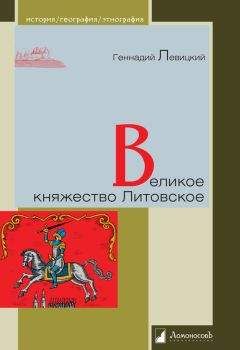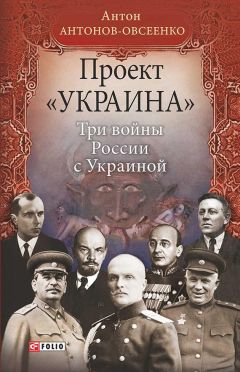Алексей Кольцов - Письма
Приказчиком же быть мне, — я тоже не гожусь. У меня тысяча примеров на глазах; самый паршивый хозяин не годится быть приказчиком, а приказчик и не завидной может быть порядочным хозяином. Жить у хозяина — надо деньги заслужить, я должен наняться весь, а не половина; а человек, делая одно и другое, — что за человек? Вы думаете, я теперь и сам дрянной хозяин, занимаясь любимым мне делом. Не делай упущений по торговле, а много-много посвяти себя я одной торговле, — и у меня давно уж был бы большой капитал; но сам бы я ни к чорту не был уж годен. Я верно приобретаю часть, а четыре упущаю — и не жалею, Бог с ними! Хоть меньше — да лучше. А вот что вы говорите взять контору «Записок» — это дело другое, на это дело можно решиться скорей. Есть на первый раз уже основание небольшое, но прочное, без употребления своих денег. Брать две тысячи пятьсот на расходы — пока сумма порядочная, и если бы меня выпустили из Воронежа, это дело бы на себя я с великою охотою взял.
Вы спросите: кто не выпустит меня из Воронежа? Полиция. Вы говорили: вам отвечать откровенно и искренно; я так и должен вам говорить, хоть и не хочется до смерти. Ничего нет хуже, как говорить искренно о своих грехах. Мы должны с отцом до двадцати тысяч рублей; векселедатели он и я, и кое-где и один я. Хоть, может быть, сумма эта для уплаты долгов и соберется, но на это надо время, и надо, чтобы я и отец мой оба вместе хотели сделать так. А так как я поеду жить в Питер против его воли, пустить же он ни за что волею не согласится, то как я уеду, а какому-нибудь векселю придет срок, он и скажет: «Я не должен по нем, а сын, а он в Питере — пошлите туда». — Что было в прошлую мою поездку? Приезжаю домой, зовут в полицию, просят по одному векселю три тысячи; но хорошо, в пору приехал, уладил с ним и деньги заплатили, а то бы вексель был послан в Москву. Он человек простой, купец, спекулятор, вышел из ничего, век рожь молотил на обухе, — так его грудь так черства, что его на все достанет, для своей пользы и для дел своей торговли. Купец настоящий устраивает одни свои дела, а есть ли польза из них для других, — ему и дела нет, и он, что только с рук сойдет, все делать во всякую пору готов. А мой отец, к несчастью, один из этих людей; мне от него и так достается довольно. Чуть мало-мальски что не так, — так ворчит и сердится. «Вы, говорить, все по книжному, да по печатному. Народ грамотный — ума палата!» Вот почему я не могу принять ваше предложение, за которое вас благодарю.
А думаю сделать вот как. Первого сентября я еду в Москву, хлопотать по 7-му департаменту, по делу старому моего отца; с него там идет иск тысяч в десять, и как кончу дело, может как-нибудь сберусь приехать в Питер к вам. Я готов бы улететь и теперь к вам душою, но нельзя: крыльев нет, т. е. средств. Но может как-нибудь приеду, а если Бог даст, выиграю дело, то уж как Бог свят приеду, и проживу месяца два-три. Тогда отец пришлет денег — и там тогда обо всем. Но чтобы я не повредил позднее своей поездкой Андрею Александровичу, то прошу вас ему об этом сказать, а то в настоящую пору, прождав меня, передачу конторы упустить; а после мне, может, нельзя будет остаться, и дело от этого потерпеть может убыток, а я собой вовсе не хочу доводить до этого никого. Вы боитесь за меня, чтоб я скоро не потерялся. Это правда, и такая правда, какая она лишь может быть, — не только через пять лет, даже скорее, живя так и в Воронеже. Но что ж делать? Буду жить, пока живется, работать, пока работается. Сколько могу, столько и сделаю; употреблю все силы, пожертвую, сколько могу, буду биться до конца края; приведу в действие все зависящие от меня средства, и когда после этого всего упаду, мне краснеть будет не перед кем, и перед самим собой я буду прав. Другого сделать нечего. А что в 1838 году я в Москве написал так много и хорошо, — это потому, во-первых, что я быль с вами и с людьми, которые собой меня каждый день настраивали; а во-вторых, я почти не делал ничего, был празден; тяготило до смерти одно дело, но одно дело — не больше. И я еще писал там весьма мало. А живя в Воронеже, кругом меня другой народ: татарин за татарином, жид на жиде; а дел беремя: торговля, стройка дома, которая кончилась с месяц, судебный дела, услуги, прислуги, угождения, посещения, счеты, расчеты, брани, ссоры. И я как еще пишу? и для чего пишу? Только для вас, для вас одних. А здесь я за писание терплю больше оскорблений, чем снисхождений. Всякой подлец так на меня и лезет: дескать, писаке-то и крылья ощипать. — Это меня часто смешит, как какой-нибудь чудак петушится.
А что я пишу не все хорошо, вы об этом сказали правду тоже. Почему же у меня идут пьесы не все хороши? Они всегда шли так, но прежде был Сребрянский. Он дрянные рвал, а теперь они все идут к вам. Мне же писать все равно, что хорошея, что дурные — одно; и дрянь возьмет иногда больше времени. И я, наконец, добился, почему они выходят, что никуда не годятся. Иногда дурное дело дурно настроить душу, и хоть пройдет оно, а все-таки впечатление-то остается в душе. А еще большой недостаток, что негде у нас мне слушать хорошую музыку. Я до этих пор помню Лангера и тот вечер, и никогда его не забуду. Да, надо непременно изучить живопись и скульптуру: они все вещи чудесные, и для человека, который пишет стихи, особенно необходимы. И самый Питер, и Москва много своим величеством способствуют силам человека; а об театре уж и говорить нечего: здесь Мочалов и Щепкин люди необходимые. Вот почему у меня выходят вещи негодные и часто не полные, что я человек такой сам, у меня в натуре большие недостатки; а будь натура гигантская… Все всего сила создать не может… Будь человек гениальный, а не умей грамоте, ну — не прочтет и вздорной сказки. На всякое дело надо иметь полные способы.
Прежде я таки — грешный человек! — думал о себе и то и то, а теперь кровь как угомонилась, так и осталось одно желание в душе: учиться; и думаю, что это хлеб прочный, и его мне надолго станет, а там, что Бог даст. Вас же прошу об одном: все дурные пьесы бросайте без внимания, а какие нравятся, те печатайте. Мне много будет говорить с вами при свидании об этом. Ах, дай-то Бог, чтобы оно скорее исполнилось. Рвется моя душа видеть вас, слушать вас.
Чорт знает, какая ошибка в «Лесе»! Он мне шибко нравился, — мне думалось, читая его, что какой-то злой демон выходить из него и шепчет грустные мысли, и в какую образность ни входит, всюду разрушает жизнь, и, наконец, в общем уничтожении, выводит смерть; а сила души, в самой смерти сознавая свое величие, уничтожает его и, торжествуя, расширяет жизнь. Но может, оно и не вышло так; какое дело? их бросить! — все, и делу конец. Из тех, что прислали вы, я не буду поправлять, кроме двух: «Стеньки Разина» и «Песни». Поправки дело дьявольское. Что написалось, то давно забылось. Насильно же заставить жить тот момент, который давно не в груди, — вещь трудная. «Песню» я поправил, а «Стеньку Разина» поправлю, и посылаю вам еще новых четыре пьески: какие хороши — те так, какие нет — в сторону.