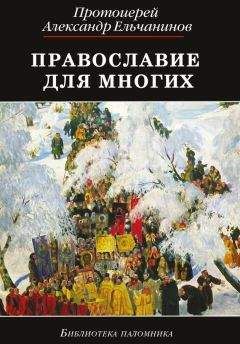Екатерина Старикова - В наших переулках. Биографические записи
Наши родители не знали ни того, ни другого — ни современного, скупо отмеренного комфорта, иногда балующего нас, постаревших их детей, ни патриархального уюта сплоченного семейного существования. Их судьба целиком пала на «промежуток», если смотреть на историю с точки зрения частного существования, и на высокие «роковые» мгновения, растянувшиеся на десятилетия, если смотреть на жизнь с общеисторической точки зрения. На этих листках я пытаюсь схватить некоторые приметы частной жизни эпохи «роковых мгновений», бывшие доступными детскому восприятию: они так обделены памятью испуганных, осторожных и спешащих современников. Я не тщу себя надеждой, что многое восполню этими записями, делаемыми «в свободное от работы время». Но все-таки… Пусть хоть щепочки вещественного бытия этих длинных в масштабе индивидуального существования «промежутков» будут сохранены нашей памятью ради тех, кого мы любили. Увы, я не могу показать быт ушедших лет глазами отца. Я могу только кое-что рассказать о том, что окружало его, рядового и среднего человека первой половины XX века, того, кого чудом пощадили война и тюрьма, но который ушел из жизни безгласно. Конечно, взрослый человек с опытом прожитых лет, он видел московский быт 30-х годов иначе. Но что же остается? Что же делать? Я буду продолжать.
ЛЕТО В ВОЛКОВЕ
Итак, в начале июня 1932 года мы едем в Волково. Все как прежде перед нашими ландехскими отъездами, и все по-другому.
Как прежде — тюки с постелями: они будут расстилаться и на жестких вагонных полках, и на телеге, да и в Волкове пригодятся; громадная плетеная корзина с висячим замочком на крышке, а к ней приторочен чайник для кипятка; красноватый фибровый чемодан — папин, сибирский, «довоенный», непробиваемый, единственный в нашей семье; суета, волнения, свертки с едой; запоздалый обед или ранний ужин, не лезущий в рот перед отъездом, — мы потребуем еды, как только рассядемся в вагоне.
Все по-другому, потому что мы едем на Курский вокзал не на извозчике (они почти исчезли), а на трамвае, на «букашке», что останавливается возле нас в начале Новинского бульвара; потому что необычен состав путешественников. Мама остается в Москве, она же работает. Едет папа, нас трое и нянька Фрося, двадцатилетняя, пышная, рыжеволосая, она прослужила у нас зиму, а осенью собирается замуж и вернется в свою рязанскую деревню; по-другому, потому что необычен и наш маршрут — сначала, как всегда, поездом ночь до Вязников, но там нас не будет ждать, как когда-то, лошадь, там мы должны сесть на пароход и подняться вверх по Клязьме. Мы с Алешей в восторге, но папины скулы подозрительно вздуты. Я уже научилась вглядываться в его лицо и знаю, что эти обострившиеся скулы на худом лице обозначают тревогу.
Папины скулы сжимались недаром. В Вязниках, добравшись на нанятой подводе до пристани, мы узнаем, что «Робеспьер» только что ушел вверх и хорошо, если вернется через сутки. В 1932 году в провинциальном городишке не на что рассчитывать: ни гостиницы, ни столовой, ни чайной. Карточная система, коллективизация, индустриализация — все это опрокинуло недавний, памятный даже мне, восьмилетней, вязниковский уют: наваристые щи и «пара чая» в расписных розами чайниках, скопление лошадей на площади у коновязи, где сладостно пахнет сеном и навозом; и самое интересное — переправа через разлившуюся еще по-весеннему Клязьму, снесшую низкий мост, — лошади дрожат, но смирно стоят в большой лодке, зеркально отражаясь в воде, конца-края которой не видно.
Теперь все по-другому. Но и не так страшно, как кажется сначала в нищей пустоте замерзшего городка. Есть неожиданные новшества: на пристани открыта «комната матери и ребенка», где можно и переночевать, дожидаясь парохода, сколько бы он ни пропадал. В этой дощатой комнате, наполненной отраженным светом ненастной серой реки, много железных кроватей, заправленных солдатскими жесткими одеялами, но нет людей. Мы впятером занимаем ее целиком. А меня очень смешит, что в «комнате матери и ребенка» поселяется отец с несколькими детьми. Мы с Алешей вовсю веселимся, а потом, взяв с двух сторон папу за руки, долго шагаем вдоль угрюмой в этот день Клязьмы по белому песку, давя ботинками крупные серые раковины. Больше делать нечего, отойти от пристани нельзя: «Робеспьер», несмотря на предупреждение, может появиться в любую минуту. Эта неопределенность ожиданий — постоянная примета и мука наших редких, но памятных путешествий на родину отца.
«Робеспьер» появляется через сутки, но почему-то проходит мимо пристани. Собравшиеся на ней бабы что-то кричат капитану, стоящему на мостике, называя его льстиво и ласково «Иваном Васильевичем». Капитан, окая, как и бабы, сердито отвечает в рупор, что надо же и ему пообедать, и машет рукой. «Робеспьер» скрывается с глаз. Все на пристани остаются снова в тревоге и неизвестности. Я снова смотрю на папины вздувшиеся скулы.
Через несколько часов пароход все-таки появляется и с плеском причаливает к пристани. Папа грузит наши тюки, корзины и чемодан. Фрося переводит нас по зыбким сходням. Низкие, плоские, песчаные берега Клязьмы плывут мимо.
Пароход — маленький, беленький, почти пустой — приводит нас с Алешей в восторг. Папа, Фрося и Лёля располагаются в каюте с двумя диванами в свежих полотняных чехлах. Мы же с Алешей, несмотря на ненастное небо и резкий речной ветер, проводим целый день на палубе. В первый раз мы плывем по реке и чувствуем себя моряками и героями. Мое тяжелое черное пальто, перешитое из мужского, кажется мне очень похожим на капитанскую шинель. Я вообще люблю воображать себя мальчиком и втайне надеюсь, что недоразумение в конце концов рассеется и я еще окажусь мальчиком. На этой пустынной, продутой ненастным ветром палубе такое мечтается особенно легко и убедительно.
Водную романтику несколько нарушает единственный верхний пассажир — добродушный бородатый дед с мешком кустарных деревянных изделий, которые он нам показывает и предлагает купить. Его товар так заманчив! Мы не привыкли ничего просить у родителей, но тут не выдерживаем, спускаемся в каюту и вымаливаем у папы по игрушке. За двадцать копеек я получаю из рук деда маленькую кругленькую коробочку с выжженными на ее крышке елочками. Коробочка долго будет мне напоминать в нашей городской сухопутной жизни ветреный день на Клязьме и озабоченное лицо отца.
К вечеру мы выгружаемся на глухой лесной пристани. Под ногами пружинит многослойная слежавшаяся щепа, кругом — редкие сосны и обширные порубки, штабеля бревен и древесины, красноватые куски сосновой коры — следы обширных лесоразработок. Мы снова ждем, сидя на своих узлах и тюках, ждем узкоколейного рабочего поезда. Он проходит двенадцать километров с пристани до Южи раз в сутки, как и «Робеспьер», но часы прибытия пароходика и отправления поезда ни в малой степени не совпадают — у каждого из них своя жизнь.