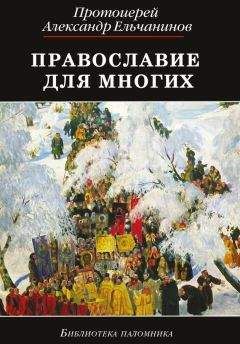Екатерина Старикова - В наших переулках. Биографические записи
У нас, конечно, не было никаких драгоценностей — откуда? Но было, как почти у всех тогда горожан, кое-какое столовое обиходное серебро. И еще были какие-то уже и вовсе ненужные предметы из «бывшей» жизни, перепадавшие нам в виде подарков от маминых родственников на дни рождения и именины (ни игрушек, ни одежды купить было нельзя, вот и выискивались праздные осколки прошлого): массивный серебряный половник для крюшона — к шутливой досаде мамы с ручкой из слоновой кости и черного дерева, серебряный кошелек с голубой муаровой подкладкой и, конечно, бесчисленные ложки, большие и маленькие, длинные и круглые, с чернью и золоченые, гладкие и витые — на зубок, на день ангела, на день рождения: при всей нищете все «наши» праздники праздновались в доме неукоснительно, собирая множество народу при малом угощении. Вот это-то дареное серебряное добро и пошло в «торгсин», в том числе и чайные ложки, которыми мы до сих пор пользовались. Одна чайная ложка — судак (это было самое дешевое) и сто грамм масла, то есть обед на два дня на всю семью. Пошла в ход и серебряная медаль бабушки Людмилы Николаевны об отличном окончании Елизаветинского института благородных девиц.
Не пожалела мама (жалеть она вообще не умела) и наших с Алешей крестильных золотых крестов. Крестили нас с ним по дворянскому и интеллигентскому обычаю не в церкви, а в квартире Краевских в Серебряном переулке. Моим крестным отцом был дедушка Михаил Николаевич, а крестной матерью — тетя Леля (мамина сестра Елена Михайловна), Алешиными же — брат дедушки Александр Николаевич и его жена Марья Николаевна. Они и одарили нас своими собственными крестами, старинными, наследственными. Прежде чем отнести эти кресты в спасительный и всепожирающий торгсин, мама, вынув их из дальнего ящика секретера, показала нам: Алешин — тяжелый, массивный, мужской, дедовский, и мой — крошечный, ажурный, «дамский». Не без веселого цинизма родители сетовали на изысканность вкуса дворянских предков, гнавшихся за изяществом и при крещении своих дочерей. Мой крестик почти ничего не стоил в торгсине, там «работа», как известно, в расчет не принималась, все скупалось на вес, все ювелирные художества и изыски переплавлялись без различия (или иногда тайно перекупались? Наверное, не без этого!). Принимая из рук мамы одну из первых крошечных жертв нашей семьи молоху индустриализации, брошку парижской модницы середины XIX века, маминой прапрабабушки, — золотое кольцо с сердоликовыми слезками, покрытыми узорными золотыми насечками, — кассирша торгсина с сожалением переспросила: «Ломать?», намекая, что золота тут кот наплакал, а старинная работа — диво. «Ломать», — твердо ответила мама, видя перед собой три детских лица, бледненьких, малокровных, худеньких: вкусы прабабушек не вызывали тогда умиления, это теперь, через сорок с лишним лет мама вдруг стала вспоминать, а куда же делись выломанные из брошки сердоликовые слезки? И не вспомнила. Бог с ними!
Однако для предстоящего путешествия в деревню в ход пошли не ложки и не кресты, а «золотые» — две или три золотых пятерки с профилем Николая II. Откуда они у нас взялись? Ума не приложу! Хранить «на черный день» мои родители ничего не могли, за это ручаюсь. Подозреваю, что «золотые» прибыли к нам из той самой деревни, куда теперь предстояло вести драгоценный сахар: деревня еще припрятывала золотишко, держалась за последние крохи.
Запомнила же я эти «золотые» потому, что сама стояла в очереди в торгсин, в теперешний Смоленский гастроном. Дело в том, что «в руки» давали только пять килограммов сахара — даже за золото, — а нам нужно было 20. Вот и стояли на улице, около Карманицкого переулка, все вместе: мама, папа, я и новая наша няня Фрося. Это была моя первая «очередь». Сколько их будет! А запомнилась эта, первая. Все-таки щадили меня родители, доставалось от маминой резкости часто, а воспитывали «интеллигентно»: восемь лет, а стою в очереди в первый раз. И как же это тогда показалось мне весело! Майское яркое утро, множество народу, и мы все вместе. Мне даже почему-то кажется, что и соседи наши Еремеевы здесь же. Ну чем не праздник? И доверенный мне драгоценный «золотой», зажатый в моей вспотевшей от старания руке («Смотри, не потеряй!»), и сознание важности, целевой направленности предприятия («Мы едем в Волково!»), и маленькие кулечки с ландрином, которые доставались мне в виде награды — принудительная «сдача» при каждых пяти килограммах сахара (мне казалось это очень остроумным: кто бы добровольно стал покупать ландрин на золото?).
Сейчас я сделаю ужасное признание, вернее, предположение, за которое меня могли бы многие проклясть. И все-таки скажу: при всей мучительности коллективное стояние в очереди в 30-е годы иногда носило характер праздничности: оно давало людям иллюзию общего дела, общего интереса, общего преодоления трудностей. О, я знаю, сама помню и мучительную усталость в ногах, досаду на пропавшее время, и отвратительные истерические скандалы. И в память этого исторического опыта никогда не встану в очередь за крепдешином, лаковыми туфлями, кримпленом и прочим ассортиментом быстротекущей моды. Но когда это было самое необходимое, перед чем все равны, когда это было сурово, как сама жизнь, что-то грело и в этой ужасной общности. Как существование в коммунальной квартире. Нет ничего более противоестественного, но что-то уходит из жизни человека вместе с этим ужасом: принудительная, но реальная и неотложная причастность к судьбам чужих людей — хочешь не хочешь, ты вынужден жить их интересами, с ними считаться, их судьба дополняет твою. Я понимаю, что меня могут, меня должны разорвать на части за эти слова. И все-таки повторяю вновь: что-то в том адском эксперименте заключалось и «греющее». Или только дети могли так воспринимать уродливые формы, начальную данность их бытия? Другого ведь не было дано!
Приехав несколько лет назад в только что отстроенный пансионат Академии наук, в первый день я с интересом рассматривала это красно-кирпичное модерное здание со стороны леса: рационально, удобно и даже красиво. И в то же время нечто пугающее увиделось мне в этой экономически строго отмеренной комфортабельности. Впечатление подтвердилось всем бытом заведения: малогабаритность номеров и богадельническая стандартность еды компенсировались обширностью беломраморного вестибюля и пышной яркостью хрустальных люстр в столовой, а многонаселенность здания — предельной близостью природы, хотя и очень узкой ее полосой, хотя и покалеченной недавней стройкой, хотя и смыкающейся с безобразными современными окраинами некогда дивного Звенигорода, но все-таки — еще природой. Однако, глядя со стороны леса на окна и лоджии хитроумного дома пансионата, я с тоской и страхом думала о человеческом одиночестве, наступающем тем решительней и тотальней, чем больше на земле становится людей и чем ускореннее распадается семья как сложное органическое целое, деспотически, но безошибочно предохраняющая человека от одиночества. Именно эти маленькие лоджии, похожие на могилы, тщательно и обдуманно отделенные друг от друга и рационально направленные на общение человека с природой, навели меня на грустные мысли. Ты не можешь действительно остаться наедине с природой и ты утешаешься и успокаиваешь свои нервы самоизоляцией: ты все слышишь, но не все видишь, и ты делаешь вид, что не знаешь о многосотовом улье, частью которого ты являешься. И вспомнились старинные широкие балконы, громадные дубовые столы, вспомнились обширные крестьянские дома родного Ландеха — то, что строилось и делалось в расчете на объединение и реальную общность. Иногда принудительную, почти всегда деспотическую, часто — обременительную для личности. И все-таки… все-таки делавшую людей больше людьми.