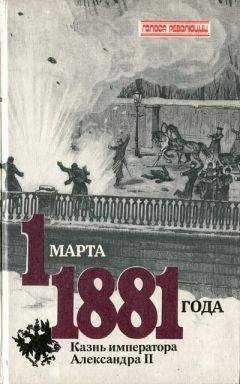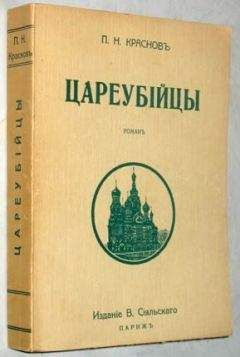Всеволод Успенский - Глинка
Известие о болезни Миши обеспокоило Ивана Николаевича. Он вызвал сына в Новоспасское и пригласил знакомого врача, которому доверял.
Врач нашел у Глинки не меньше десятка самых разнообразных недугов: и золотуху, и поражение солнечного сплетения, и невралгию, и меланхолию – целую «кадриль» болезней.
Лучшее лекарство – теплый климат, – заключил свой диагноз врач, и Иван Николаевич уступил.
Глава VII
Девятнадцатою апреля 1830 года титулярному советнику Глинке выдали паспорт на отъезд в чужие края. В паспорте было сказано, что упомянутый Глинка «двадцати пяти лет, росту малого, лоб средний, волосы темные, брови черные, глаза карие, нос умеренный, подбородок умеренный, лицом бел. Приметы особенные: на левом виске бородавка, на правой стороне головы вихор». О том, чем жил, о чем думал, к чему стремился Глинка, что он за человек, – в паспорте не было ни слова.
Глинка выехал из Новоспасского в Брест-Литовск, оттуда – в Варшаву, из Варшавы в Дрезден. Из Дрездена в Лейпциг, из Лейпцига во Франкфурт-на-Майне и дальше на пароходе по Рейну в направлении к Кобленцу.
Глинка отправился путешествовать вместе с певцом капеллы – Николаем Ивановым. Превосходный тенор Иванова был недостаточно обработан – его посылали учиться в Италию.
Дорогой к приятелям присоединился немецкий студент – обладатель баса чудовищной силы. Селенья и города, мелькая в глазах, только скользили по памяти. На станциях, для обеда и на ночлег, заходили в остерии или в мелкие погребки. Если случалось там фортепиано, пели трио из «Фрейшютца».
Не доезжая до Кобленца, сошли на берег с рейнского парохода и двинулись в Эмс пешком, распевая дорогой разученное уже в совершенстве трио. Когда приходили в селенья и маленькие города, жители сбегались послушать бродячих певцов.
Эмские воды совсем не понравились Глинке. В Аахене не нашлось времени ходить на воды, потому что в театре пели отличные певцы. «Фиделио» Бетховена Глинка с Ивановым с первого раза не поняли и лишь во второй раз постигли всю глубину музыки этой оперы.
В Базеле Глинка встретился с Штеричем[72] – петербургским приятелем, спешившим в Турин занять пост атташе при русском посольстве.
Вместе выехали через Берн и Лозанну в Женеву. Среди величественных швейцарских гор поблескивали голубые озера. Достигнув вершины Симплона, невольно остановились и оглянулись назад. Там все было ясно, величественно, недвижно, а впереди – туман. Когда спустились, то очутились в прелестной долине. Стоял уже сентябрь, наложивший па все свои нежные краски.
В Милан приехали к полдню. Собор из белого мрамора со множеством башен и стрел казался городом в городе, легко громоздящимся в ясном, необыкновенно прозрачном небе. Сплетение улиц и зданий различных эпох – все приводило Глинку в восторг.
Глинка хотел погрузиться в самую гущу народной жизни Италии, но осуществить этот замысел оказалось не так-то легко. Живые, веселые и общительные друг с другом, миланцы встречали иностранцев не слишком любезно. Привыкнув ненавидеть австрийцев, которые все еще хозяйничали в Ломбардии, не доверять французам и опасаться чванливых, сухих англичан, миланцы сурово косились и на русских, в разговоры вступали неохотно.
Если в кабачке, битком набитом народом, Глинка подсаживался за крашеный деревянный стол, миланцы умолкали и, переглянувшись друг с другом, вставали. Веселья, которое било в таверне ключом минуту назад, – как не бывало.
Народ Ломбардии слишком хорошо помнил кровавые войны, которые столько лет вели на его земле иностранные армии. Мечту о свободной от чужеземного гнета Италии народ затаил про себя, на чужеземцев посматривал неприязненно. Глинке приходилось приглядываться к народу со стороны, на улицах и на площадях.
В неделю осмотрев в Милане все, что стоило видеть, друзья поехали в Турин праздновать новоселье Штерича. В Турине посетили театр, оперу. Знаменитая певица Унгер пела отлично, играла весьма натурально. Известный французский тенор Дюпрэ пел с чувством, подчеркивая каждую ноту. Впечатлений набралось много. Настала пора заняться делом: найти среди знаменитых миланских певцов Иванову учителя пения, Глинке – преподавателя композиции. По возвращении в Милан первый визит нанесли Бианки – некогда славному тенору, а теперь – седому, обрюзглому итальянскому буржуа.
Миланский маэстро принял русских с подчеркнутой важностью, сухо. Но Глинка, взглянув на него, попросил позволения сесть за рояль и тут же начал импровизировать на мотивы услышанных в Италии песен. Бианки первые десять минут внимал ему снисходительно-холодно, но по мере того как Глинка играл, глаза итальянского певца округлялись и напускная важность сползала с него.
Лицо его изменилось, сухость исчезла, и завя зался живой разговор об искусстве.
На уроках, которые Бианки начал давать Иванову, Глинке почудилось шарлатанство, славный маэстро умел придавать вид глубоко продуманной и последовательной системы.
Но что было делать, лучшего учителя пения, чем Бианки, в Милане не нашлось.
В качестве преподавателя композиции, Глинке указали Франческо Базили[73] – главного инспектора Миланской консерватории. Этот был с виду еще важней, чем Бианки. Чиновник и сухой теоретик-контрапунктист, он никак не хотел понять, что нужно русскому композитору. Головоломные упражнения Базили напомнили Глинке гипсовые носы, которые без конца срисовывал он в Новоспасском. Глинка расстался с Базили и стал заниматься сам, стараясь как можно чаще бывать в опере, критически слушать музыку и певцов.
В Милане с нетерпением ждали открытия двух театров: большого – Ла Скала и малого. В театре Ла Скала в тот сезон пела прославленная певица Джудитта Гризи, а в малом театре – лучшие исполнители – Паста, Рубини и Галли.[74]
Композиторы Беллини и Доницетти[75] ставили там свои новые оперы. На первом же представлении «Анны Болейн» Доницетти, в которой главные партии исполняли Рубини и Паста, Глинка пришел в совершенный восторг. От его чуткого слуха не ускользали и самые тонкие, едва уловимые оттенки в пении Рубини. После каждого посещения оперы, возвращаясь домой, Иванов и Глинка повторяли все то, что в пении и в оркестре особенно их изумило. Иванов довольно скоро постиг приемы Рубини, а Глинка так ловко и тонко подражал самой Пасте, проигрывая ее арии на фортепиано, что приводил в удивление знакомых, соседей и просто любителей с улицы, толпившихся под окном.
Тут подоспел карнавал со всем его пестрым и сутолочным весельем. В театре поставили «Сомнамбулу» Беллини. Все хотели послушать новую оперу. Перед зданием театра шумел карнавал. Отовсюду звучали то смех, то ария, вперемежку с уличной песенкой. Но Паста с Рубини так пели в «Сомнамбуле», что, несмотря на веселое оживление карнавальной поры, зрители плакали в сцене второго акта. Плакали и артисты. Их слезы были совсем непохожи на театральные слезы, они рыдали от чистого сердца.