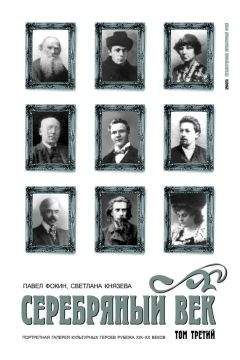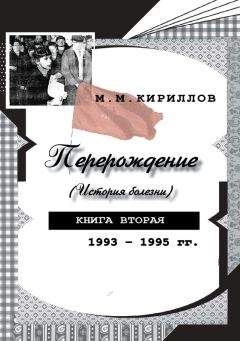Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р.
«Коровин любил давать ученикам практические советы. Говорил он очень интересно и с большим вдохновением, особенно о живописи, которую прекрасно чувствовал и знал.
Однажды, пленившись прекрасными очертаниями тела и изумительной белизной кожи натурщицы и видя, что студент очень плохо пишет ее, Коровин схватил палитру и кисти и, воскликнув воодушевленно: „Молока, молока, вот что нужно!“, стал с силой наносить кистью удары по холсту. Друг за другом следовали короткие взмахи кистью. Краски оживали. Этюд обретал совсем другой характер. Константин Алексеевич писал своеобразно, со свойственной лишь ему щедростью. Студенту невозможно было продолжать его работу, первый же мазок мог все испортить» (М. Сарьян. Из моей жизни).
КОРОВИН Сергей Алексеевич
Живописец, педагог. Член объединения «Союз русских художников». Брат К. Коровина. Автор картин «На миру», «К Троице» и др.
«Он оставил во мне незабываемое впечатление. Как преподаватель он был очень плохой, но как художник он был явлением особенным. Большой поэт в душе, певец грустной народной России, он, будучи очень слабого здоровья и рано сойдя в могилу, оставил мало работ, но его „На богомолье“ – девушка и старушка, идущие по деревенской дороге – с русским пейзажем, очень тонко прочувствованным, было подлинно художественной вещью, с духовным содержанием.
…Работал Коровин очень серьезно и упорно, с большим увлечением. Следить за его работой было для меня очень ценно и поучительнее его уроков…Работа мастера и была примером без слов.
Но, конечно, сам Коровин, красавец, худой, бледный, изможденный, сгорающий от болезни, но и горящий духовным и религиозным огнем, с его глухим приятным голосом и каким-то отсутствующим взором, сильнее врезался в память, чем его творчество» (С. Щербатов. Художник в ушедшей России).
«Чудный человек Сергей Алексеевич Коровин был любим учениками. Когда он входил в класс, высокий, худощавый, цыганского типа брюнет, с желтым смуглым лицом и с золотыми искрами в глазах, чувствовали все его творческую настроенность, и это передавалось ученику» (М. Шемякин. Воспоминания).
«Когда входит наш преподаватель, все, разумеется, стихает. Это высокий, сумрачный, стройный, малоразговорчивый человек, очень смуглый, уже немолодой. Сергей Алексеич Коровин. Лицо его строгое, усталое, замкнутое, по-своему красивое. Оно всегда таково, будто человек только что встал с одра долгой, изнурительной болезни, но не хотел бы об этом говорить и не будет. Глаза вдумчивые, с желтыми белками, красивые. Он печально смотрит на нас сверху вниз, а мы обратно на него снизу вверх. И несколько подобострастно. Он, разумеется, хорошо знает, как и кто нас учил рисовать и какая этому делу цена. Его требовательность к рисунку нередко оказывается, как это ни грустно, все-таки несколько выше нашего понимания» (С. Бобров. Мальчик).
КОРОЛЕНКО Владимир Галактионович
Прозаик, публицист, общественный деятель. Публикации в журналах «Слово», «Русская мысль», «Русское богатство», «Северный вестник» и др., газетах «Речь», «Русские ведомости» и др. Книги «Очерки и рассказы» (М., 1887), «Очерки и рассказы. Кн. 2» (М., 1893), «Отошедшие» (СПб., 1908), «История моего современника» (1922–1929).
«Первой личной моей встречей с „знаменитостью“ была встреча с В. Г. Короленко – в редакции „Волжского вестника“ летом 1892 г. Помню, зайдя как-то в редакцию, я увидал сидящего на диване коренастого, довольно „простецкого“ вида мужчину средних лет с бородой лопатой и маленькими, серыми, глубоко сидящими глазками. Он походил и по наружности, и в своих манерах на волжского капитана с непарадного парохода или даже на пароходного лоцмана, вечно стоящего в своей маленькой будке на верху палубы, за рулевым колесом. Загорелое, обветренное лицо и запущенная борода еще больше увеличивали это сходство. Короленко в самом деле, живя тогда в центре волжского пароходства, Нижнем, был близок к пароходной среде (его жена была сестрой пароходного капитана). Беллетриста, да еще прославленного, да еще с таким романтическим талантом, трудно было увидать в тогдашнем Короленке. И разговор его, тусклый и вялый, был неинтересен и как-то ниже ожидаемого. Такое же, впрочем, впечатление осталось у меня от Короленки и при позднейших встречах в Петербурге. Хотя временами он оживлялся (особенно когда разговор затрагивал какую-нибудь „гражданскую“ тему), но и тогда не выходил за границы тех общих мыслей и чувств, которых можно было ожидать заранее. Видимо, талант Короленки был мало связан с его личностью и проявлял себя, помимо последней, в каком-то стихийном обнаружении. Я никогда не встречался с Чеховым, но его письма и все воспоминания о нем заставляют думать, что впечатление от него было лично-ярким. Напротив, письма Короленки удивляют своей бесцветностью – и таким же приблизительно было и личное от него впечатление» (П. Перцов. Литературные воспоминания. 1890–1902).
Владимир Короленко
«Меня очень удивил его внешний облик – В. Г. не отвечал моему представлению о писателе и политическом ссыльном. Писателя я представлял себе человеком тощим, нервным, красноречивым – не знаю, почему именно таким, В. Г. был коренаст, удивительно спокоен, у него здоровое лицо в густой курчавой бороде и ясные, зоркие глаза.
Он не был похож и на политиков, которых я знал уже довольно много: они казались мне людьми, всегда немножко озлобленными и чуть-чуть рисующимися пережитым.
В. Г. был спокоен и удивительно прост. Перелистывая мою рукопись на коленях у себя, он с поразительной ясностью образно и кратко говорил мне о том, как плохо и почему плохо написал я поэму. Мне крепко запомнились его слова:
– В юности мы все немножко пессимисты – не знаю, право, почему. Но, кажется, потому, что хотим многого, а достигаем – мало…
Меня изумило тонкое понимание настроения, побудившего меня написать „Песнь старого дуба“, и, помню, мне было очень стыдно, неловко перед этим человеком за то, что я отнял у него время на чтение и критику моей поэмы. Впервые показал я свою работу писателю и сразу имел редкое счастье услышать четкую, уничтожающую критику.
Повторяю – меня особенно удивила простота и ясность речи В. Г.: люди, среди которых я жил, говорили туманным и тяжелым языком журнальных статей» (М. Горький. Литературные портреты).
«У Владимира Галактионовича была особая манера разговаривать: всякая его беседа с другими людьми сводилась к сюжетному повествованию, к рассказу.