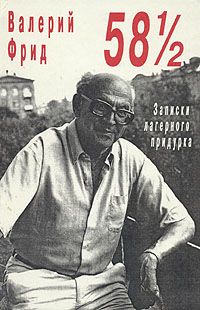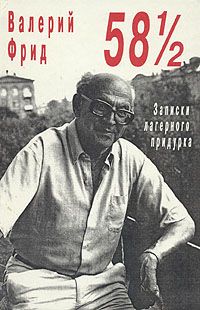Хэди Фрид - Осколки одной жизни. Дорога в Освенцим и обратно
Началось клеймение. Девушкам было приказано построиться в алфавитном порядке перед эсэсовцем, который сидел за столом с большой регистрационной книгой. Он тщательно проверял имя каждой девушки и ставил номер. Этот номер татуировали на предплечье. Дора, чья фамилия начиналась на А, была среди первых. Она показала мне свою руку, навек заклейменную номером А-7603. Я спросила ее:
— Ты переживаешь?
— Я? Из-за того, что меня заклеймили? Нет. Это они должны переживать, не я.
Дорогая Дора, мудрая, как всегда. Она считала, что позор всегда ложится на тех, кто поступает плохо.
— Конечно, я горюю о своих родителях, если правда, что их убили, но я не горюю о том, что они делают со мной. Я сохраню себя как личность. Этого они у меня не отнимут, как бы ни старались. Я знаю, что останусь личностью, независимо от того, назовут ли они меня А-7603 или еще как-нибудь.
— Возможно, ты права, но у меня беда. Помоги мне. Я не хочу оставлять Ливи. Что мне делать?
Она тоже не знала. Я решила выйти из очереди, присесть где-нибудь и обдумать решение. Моя фамилия начиналась на S, так что у меня было достаточно времени. Я отошла от своей группы, села как можно дальше у изгороди и заплакала. Я смотрела на трубу и думала о родителях. Я так погрузилась в эти мысли, что почти слышала голос матери: «Заботься о своей сестре». «Я хочу заботиться, но помоги мне», — думала я в отчаянии. Я чувствовала, что второй раз не оправдала ее надежды. Ведь это были ее последние слова: «Заботься о своей сестре». Вот так я забочусь о ней? Спасаю себя и оставляю ее на смерть? Нет, так не должно быть. Если она должна умереть, то и я вместе с ней. Неожиданно я получила ответ, такой простой, что удивительно, как я не додумалась до этого раньше. Солнце уже стояло высоко, когда, облегченно вздохнув, я присоединилась к группе. Теперь я знала, что делать. Если я не могу вытащить ее, то я должна вернуться в блок и быть с нею, разделить ее участь, какой бы она ни была. Но как мне попасть туда? За нами все время следили, нас окружала колючая проволока под током, сторожили эсэсовцы со своими ищейками. Передвигаться без разрешения было запрещено.
Когда я увидела четырех из своих подруг по блоку, которые несли котлы с супом, я поняла, что должна сделать. Я подошла и спросила, не хочет ли кто-нибудь поменяться со мной местами. Нина, чья сестра была отобрана для сельскохозяйственных работ, обрадовалась. Она даже не взяла зубную щетку, которую я ей предложила. Мы быстро составили план. Как только они кончили разливать суп, мы попросили других девушек окружить нас, чтобы мы могли обменяться одеждой. Я сняла красное цветастое шерстяное платье и надела Нинину серую тюремную одежду. Она оделась в мое платье и пошла искать свою сестру. Я взяла пустой котел и ушла с тремя другими девушками через ворота лагеря, и мне еще раз глумливо усмехнулась надпись:. «Arbeit macht frei». Котел был тяжелый, но у меня было хорошо на душе. Я знала, что сделала правильный выбор.
Атмосфера внутри блока была гнетущая. Там всегда было темно, но сегодня мрак казался еще гуще. Царила мертвая тишина. Только изредка можно было услышать хныканье. Божи первая заметила меня. Она посмотрела на меня так, как будто увидела привидение.
— Хеди, что ты здесь делаешь?
— Я вернулась. Где Ливи?
— Ты с ума — сошла. Ты знаешь, что они сделают с нами?
— Конечно, знаю. Но я не хочу спасаться без моей сестры.
— Ты, наверное, сошла с ума. Твоя сестра? Мы должны думать о себе. У меня тоже есть сестра, но если бы меня отобрали, я не стала бы думать о том, что сестра остается.
— Где Ливи? — спросила я.
— Наверное, в уборной. Пойду приведу ее, — сказала она с раздражением.
Но Ливи прибежала сама. Кто-то уже сказал ей. Рыдая, она бросилась мне на шею.
— Хеди, Хеди, ты вернулась! Слава Богу!
Мы обе рыдали, обнявшись, думая о том, что пока мы вместе, неважно, что случится.
Жизнь продолжалась в этом преддверии смерти. Настала ночь. На наших нарах стало просторнее: Дора и еще одна девушка ушли. Нам не хватало Доры, но было приятно, что можно повернуться, не будя всех остальных. Наступило утро, и с ним обычный распорядок: побудка, беготня в уборную и на перекличку. Магда заняла место Доры во главе нашего ряда. Магда тоже была моей подругой и соученицей, невысокая бледная девушка с горящими черными глазами, очень сообразительная.
Ожидая, пока нас пересчитают, мы думали, что скоро придет комендант из СС, и нас пошлют в газовую камеру. Но ничего не произошло. Ни в этот день, ни на следующий. После переклички нас опять отправили в блок, и мы опять сидели на нарах, как испуганные воробьи, ожидая своего конца. Тянулись дни. Сидя без дела, мы все думали об одном, и когда наступал вечер, чувствовали облегчение, что нам дали возможность прожить еще день. Зачем? Имела ли значение наша жизнь? Не лучше ли было, если бы нам позволили умереть быстро, чтобы избавить от страданий, причиняемых скорбью об умерших близких и бесконечной тревогой о будущем? Но мы хотели жить.
Мы продолжали ожидать смерти. Через несколько дней, к моему удивлению, нас послали на работу в другой лагерь, где были построены новые бараки. Мы должны были убрать строительный мусор, уложить оставшиеся доски и навести порядок. После нескольких недель бездействия работа была облегчением.
Проработали мы недолго, — раздался свисток, сзывающий на перекличку. У меня упало сердце. Теперь, подумала я, пробил час. Сейчас нас отправят в газовую камеру. Не может быть другого объяснения для переклички в такое неурочное время. Мы построились в ожидании своей судьбы. Капо — руководитель работ — объявил, что рабочая группа из блока 35 (нашего блока) должна немедленно вернуться. Мы, взявшись за руки, отправились навстречу предполагаемой смерти.
Вернувшись в лагерь, я увидела, как к блоку подошли два эсэсовца. Они зашли к «блоковой». Я подошла на цыпочках к ее окну и пыталась подслушать. Я хотела знать, что происходит. Эсэсовцы интересовались, все ли девушки в блоке прошли осмотр для привлечения к работе. Узнав, что около сотни эту процедуру не проходили, они приказали нам построиться и заявили, что им нужны еще рабочие.
Когда охранник блока дал сигнал строиться, так, чтобы сотня не прошедших осмотр оказалась впереди, я побежала обратно, чтобы успокоить друзей и рассказать, что я услышала. У меня созрел план. Я попыталась стать со своей пятеркой среди первой сотни, но это мне не удалось. Они знали друг друга и понимали, что если кто-то со стороны сумеет втереться к ним, то они могут остаться в лагере. Поэтому я решила, что наша пятерка станет сразу после этой сотни.
Я посмотрела на своих детей, и зрелище было нерадостное. Четыре девочки с тонкими ножками, истощенные и жалкие, непригодные для работы. Ила, самая меньшая, и другие трое, немного постарше, стояли бледные, со впалыми щеками. Я поняла, что надо что-то предпринять. Я вынула сбереженный кусочек хлеба, и, разломив пополам, сунула его Ливи за щеки, чтобы она выглядела здоровее. Несколько раз я била ее по щекам, чтобы они порозовели, и велела ей выпрямиться, чтобы создать впечатление здоровья и решительности. То же я сделала с тремя другими. Теперь оставалось только ждать и надеяться. Эсэсовец прошелся медленно вдоль строя из ста девушек, выбирая по человеку то тут, то там. На этот раз он не смотрел на ноги, а руководствовался только общим впечатлением. Чем ближе он подходил, тем больше я нервничала, мысленно молясь про себя и скрестив пальцы.