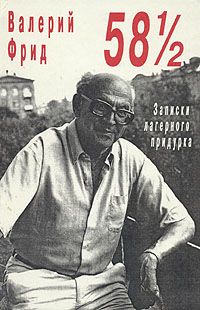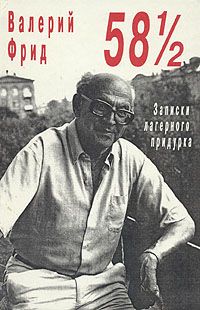Хэди Фрид - Осколки одной жизни. Дорога в Освенцим и обратно
У Розы был друг, парень из заключенных, один из мужчин в полосатой уремной одежде, которых мы видели в первую ночь в Освенциме. Иногда Розе удавалось урвать несколько минут для него. Вчера их обнаружил эсэсовец. Обоих высекли. Что случилось потом с ним, неизвестно. Но Розу прогнали из «блоковых», ее прекрасные волосы остригли. Ее место заняла Люба, злая Люба, которой доставляло удовольствие размахивать дубинкой. Нам было жаль Розу, но еще больше мы жалели себя, когда думали о том, какую власть над нами получила Люба. Мы только надеялись, что со временем Любу постигнет такая же судьба; мы подозревали, что у нее тоже есть мужчина, с которым она тайно встречается. Бежи могла рассказать нам больше, но надо было ждать, пока кончится перекличка.
Когда мы вернулись на нары, она рассказала нам о мужчинах в полосатой одежде. Они работали на прибывающих поездах, освобождая вагоны и следя за тем, чтобы новые заключенные выполняли инструкции немцев. Они помогали эсэсовцам отводить отобранных к газовым камерам, затем загружали трупы в печи крематория. За это им разрешалось брать из багажа заключенных продукты и вещи. Многие находили драгоценности, зашитые в одежду, и становились капиталистами в лагере. Их называли «канадцами», ибо там, где они работали, текли молочные реки с кисельными берегами, как в земле обетованной для евреев из Восточной Европы — Канаде. Находясь в гуще событий, они знали слишком много и потому были потенциально опасными, так что им не позволяли долго жить и заменяли каждые три месяца. Их жизнь оканчивалась на их же рабочем месте — в газовых камерах. Те, кого посылали в «Канаду», знали, что дни их сочтены, и им оставалось только наилучшим образом использовать оставшееся короткое время. Они были богаты, они могли купить все, что было в лагере, даже девушек, которые им приглянулись. Ходить на свидания было очень рискованно, но поскольку их самое сильное желание — голод — было удовлетворено, то следующее сильное желание — жажда любви — предъявляло свои права. Короткие свидания могли происходить за ограждением, в уборной или, если повезет, в постели «блоковой».
Несмотря на старания немцев держать все группы отдельно, иногда случайно мы встречались с кем-нибудь из прибывших позднее. Однажды Ливи вбежала в блок, задыхаясь от радости.
— Хеди! Хеди! Я встретила тетю Елену и кузину Джуси! Я с трудом узнала их остриженных.
— Где?
— Когда шла из уборной. Ты знаешь блок за уборной? Так вот, у них была перекличка, и я побежала к ним. Хотя знала, что охрана изобьет меня. Мне удалось обнять тетю Елену и спросить, знает ли она, где мама, но потом «блоковая» ударила меня. Было не слишком больно, и я рада, что сумела обнять тетю.
— Что она сказала о маме?
— Она ничего не знает. Но если она жива, то и мама, наверное, тоже. Она, должно быть, в другом лагере. Здесь их так много. Пойдем в уборную. Может, увидим ее опять.
Но в тот день нам это не удалось. А на следующий день блок был пуст. Мы узнали, что их отправили в лагерь С.
Освенцим был огромным лагерем — мы даже не представляли, насколько он большой. Мы знали, что имелось несколько лагерей: А, В, С и т. д., но не знали, сколько их. Мы жили в лагере А, большом, около пятидесяти блоков. По другую сторону колючей проволоки можно было мельком увидеть людей в лагере В. Над входом в каждый лагерь висел девиз «Arbeit macht frei»[3], выведенный витиеватыми готическими буквами. Я все пыталась понять, что это означает.
Через несколько дней, когда мы стояли на перекличке, появились эсэсовцы. Мы поняли, что будет отбор. Им нужно было несколько сот девушек для сельскохозяйственных работ, и я надеялась, что меня возьмут тоже. Наша пятерка — Дора, Ливи, Сюзи, Ила и я — всегда стояли в одном ряду. Мы думали, что нас никто не может разлучить.
Эсэсовец начал справа. Мы стояли, а он оценивал нас своим критическим взглядом: выберет или нет? Он смотрел главным образом на икры ног, и я вдруг почувствовала себя, как на скотном рынке в какой-нибудь карпатской деревне. Я даже подумала, что он будет заглядывать нам в рот и рассматривать зубы. Этого он не стал делать, но выбрал девушек с крепкими ногами и толстыми икрами. Очевидно, ему нужны были волы для работы в поле. Он подошел к нашему ряду, посмотрел на Дору, на ее икры и вызвал ее вперед. На трех других он посмотрел с презрением. Затем его глаза остановились на моих ногах. Я со страхом подумала, не дрожат ли у меня колени.
— Ты тоже, — сказал он, указав на меня хлыстом.
Я сделала неуверенный шаг, думая: «Я не могу идти без сестры. Не могу ее оставить. Она должна идти со мной, но как это сделать?» Когда эсэсовец прошел дальше, я сделала ей знак, чтобы она выскочила вперед, но один из охранников увидел, оттолкнул ее и несколько раз ударил. Вскоре все кончилось. Было отобрано нужное количество, остальным разрешили вернуться в блок. Нас, отобранных, увели в другой лагерь, туда, где находилась баня. Каждая из нас должна было получить номер, который татуировался на внутренней стороне предплечья. Я с горечью думала о скотине в Лапушеле, гам у животных были имена, а мы лишены своих. Мы должны были стать номерами, массой безличных, ничего не значащих единиц.
Я думала о том, как они добились того, что я стала ничтожеством, которое мирится со всем, что со мною делают, что я даже готова умереть, чтобы выполнить их требования. Как это могло случиться? Неужели в хлебе действительно был бром? Или есть какая-то иная причина?
Но на этот раз я не намеревалась подчиняться. Я знала, что сделанный отбор означал безопасность для меня и Доры и смерть для Ливи и всех остальных, кто остался в бараке. После каждого отбора оставшихся вели в крематорий.
Мусор сжигали. Многих разлучили с их сестрами. Я стала спрашивать, хочет ли кто-нибудь поменяться местами с Ливи. Девушки смеялись в ответ.
— Ты что, сошла с ума? Разве ты не знаешь, что будет с теми, кто уйдет обратно?
Да, я знала.
Затем началась знакомая рутина. Нам дали скверно пахнущий кусочек мыла, мы разделись и стали под душ. После душа нам разрешили надеть чистую одежду. Не серую, тюремную, а гражданскую, которую женщины сняли по прибытии в Освенцим и на которой был большой желтый крест, чтобы можно было видеть издалека, что мы заключенные. Меня обрадовало, что выдали также рубашку, которую я немедленно использовала как полотенце.
Перед тем, как мы оделись, нас опять остригли. Щетину, выросшую за последние недели, сбрили. Наши головы опять стали бильярдными шарами. На этот раз атмосфера была не такая напряженная, как тогда, когда нас стригли впервые, хотя мы опять стояли голые перед парикмахером, — отчасти потому, что мы начали привыкать ко всему, а также из-за того, что мои друзья были рады возможности уйти из Освенцима. Я не могла радоваться, я думала о Ливи.