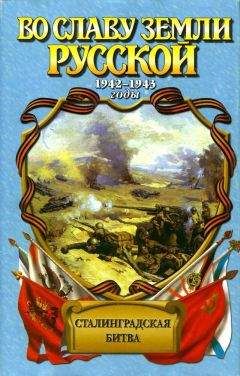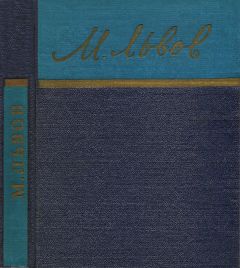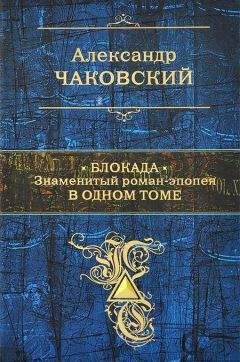Александр Морозов - Михаил Васильевич Ломоносов. 1711-1765
Это было тонко рассчитанное лицемерие. Умная и проницательная в политике Екатерина была чужда искусству. Ее собственное сочинительство было сухо и надуманно. Она не была склонна проявить или хотя бы показать интерес к одам Ломоносова. Они были для нее как бы запыленными атрибутами прошлого царствования, к тому же Ломоносов был настолько неосторожен, что продолжал вспоминать в них «великую Елисавет», о которой надлежало немедленно и как можно основательнее забыть.
По видимому, Екатерина II вовсе не ценила поэтического творчества Ломоносова и, рассудив за благо показать ему свою благосклонность, проявила внимание к его лабораторным занятиям. Мозаическое искусство Ломоносова также не могло рассчитывать при ней на какой-либо успех.
Всё скрытое прежде недоброжелательство к Ломоносову, непонимание и отрицание поставленных им художественных задач теперь откровенно прорывались наружу. Работавшие в Петербурге итальянские мастера декоративной, плафонной и портретной живописи — Валериани, Традиции, Торелли — назойливо посещали Ломоносова, с любопытством рассматривали его мозаики, говорили ему слащавые комплименты, а по уходу из дома пожимали плечами и разносили по городу самые неблагоприятные отзывы.
Признанный «знаток искусств» Я. Штелин также втайне поддерживал неодобрительные мнения о мозаиках Ломоносова. В записке «О мозаике в России», сохранившейся в архиве Штелина, он откровенно рассказывает, как месяца за два до смерти Ломоносова повез к нему австрийского посла Лобковича осматривать «Полтавскую баталию». «Ломоносов, у которого были опухшие ноги, велел принести себя в креслах и был вне себя от радости, когда князь Лобкович его заверил, что уплатил в Риме 20 000 скуди за две мозаики, из которых каждая была в половину этой». Но не успел радушный и доверчивый хозяин распорядиться закрыть дверь за своими посетителями, как князь Лобкович в карете пренебрежительно отозвался о работе Ломоносова, а Штелин, судя по всему, не преминул поддакнуть.[389]
В Петербурге явственно чувствовалось веяние новых художественных вкусов.
Екатерине претил живописный и красочный стиль барокко. И на смену грустно доживавшему свой век Растрелли явился Кваренги — строгий и четкий художник классицизма. В мастерской стояла начатая мозаика «Взятие Азова». Но о памятнике Петру, так, как его задумал Ломоносов, больше не помышляли.
* * *Ломоносов жил в позолоченной опале. Но золотили ее грубо, неумело и неохотно. Оказывая Ломоносову внешние знаки своего внимания, Екатерина, по существу, продолжала относиться к нему со значительной неприязнью, что особенно ясно раскрылось в деле Шлёцера.
В 1761 году Герард Миллер выписал из Германии геттингенского студента Августа Людвига Шлёцера, Миллер до небес расхвалил Шлёцера, который, по его словам, был «в ученых языках, в латинском и греческом, да отчасти и в еврейском и арабском, искусен, при том, кроме достаточного знания природного немецкого языка, знает и говорит по-французски и по-шведски, а в исторических науках довольно упражнялся». В особенности, как уверял Миллер, Шлёцер, проживший несколько лет в Швеции, «прилегал к истории северных народов и здесь с немалым успехом и к истории российской». Причина столь лестной рекомендации заключалась не столько в учености Шлёцера, сколько в том, что он стоял на тех же позициях по отношению к русской истории, что и сам Миллер, т. е. был убежденным норманистом, ставившим русскую историческую жизнь в зависимость от скандинавского государственного начала. В лице Шлёцера Миллер готовил себе преемника. Стараниями Миллера Шлёцер в 1762 году был зачислен адъюнктом Академии «с обнадеживанием», что он «со временем и в профессоры произведен быть имеет».
Через два года Шлёцер решил, что это время наступило. Он подал прошение в канцелярию Академии наук разрешить ему трехмесячный отпуск для поездки в Германию по личным делам, но при этом настоятельно просил «прежде моего отъезда дать знать», признает ли она его за достойного «впредь в должность (разумеется — профессора. — А. М.) определить». В таком, случае он обещал представить план своих будущих работ «для рассмотрения и поправления моего труда».
Ломоносов склонен был пойти навстречу Шлёцеру, «дабы не упустить человека», который «оказал уже такие успехи в Российском языке, каких от выписываемого вновь иностранного человека не инако как чрез долгое время ожидать можно». Однако он полагал, что «оному Шлёцеру много надобно учиться, пока может быть профессором Российской истории».
6 июня 1764 года Шлёцер уже подал в Конференцию два плана — о разработке русской истории и о издании популярных книг. Ознакомившись с этими планами, а также с поданным ранее сочинением Шлёцера «Опыт о российской древности, собранной из греческих авторов», Ломоносов резко изменил о нем свое мнение. Он впервые разглядел, какая перед ним была птица! Лицом к лицу с ним оказался высокомерный молодой человек, с острым вздернутым носом и презрительно поджатыми пухлыми губами, заранее убежденный, что именно он привез с собой последнее слово западной науки.
Снисходительно заметив, что приютивший его под своим кровом Миллер «лет на тридцать отстал от немецкой литературы», Шлёцер, едва освоившись с русским языком, «забраковал» грамматику Ломоносова и даже вознамерился сам составить новую, чем несказанно обрадовал Тауберта, который еще в начале 1763 года сказал ему: «Напишите сами русскую грамматику, Академия ее напечатает». «Я принял вызов», — говорит Шлёцер.
Шлёцер с присущим ему необычайным самомнением и заносчивостью счел себя ни много ни мало, как призванным создать русскую историческую науку, которая, по его словам, еще не существовала: «Что это были за люди в Академии и вне ее, которые принимали на себя вид, что они были тем, чем я хотел сделаться, — исследователями русской истории… — писал Шлёцер в своих мемуарах. — Впрочем, лет сорок тому назад еще попадались в Германии школьные учители, или даже ремесленники, которые прилежно читали городские и сельские хроники и правильно понимали их содержание, но не знали, жил ли Лютер до Карла Великого или после него. Таковы были тогда все без исключения читатели летописей в России» (подчеркнуто самим Шлёцером). Шлёцер имел здесь в виду прежде всего Татищева и Ломоносова. Последнего он прямо называет «грубый невежа, ничего не знавший, кроме своих летописей». С неслыханной развязностью Шлёцер все, что было сделано до него в русской истории, в частности Ломоносовым, объявляет своего рода черновым материалом, который и должен быть предоставлен в полное его распоряжение.