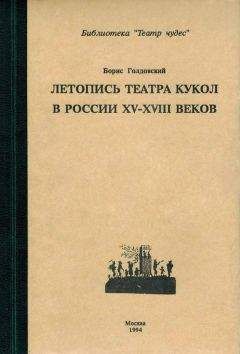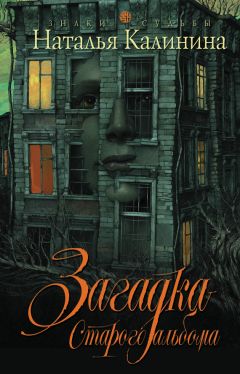Анастасия Баранович-Поливанова - Оглядываясь назад
Дети постарше разговаривали о войне, а среди взрослых царили самые разные настроения и опасения, — мать моей подружки не знала куда бы спрятать свой партбилет.
Мхатовцы шептали на ухо друг другу: «Сталин-Ста- лин Сралин-Сралин, нету сытных обедов, нету теплых домов». Народных артистов, особенно на кремлевских приемах, кормили, конечно, сытно, а стране голодать было не привыкать. Да и выражено было уж очень грубо и примитивно, — на уровне анекдотов моих деревенских подружек.
Мама, как всегда быстро принимавшая решения, начала работать в колхозе. Об эвакуации и думать не хотела, а тем более чтобы отправлять меня куда-нибудь одну.
Как-то еще летом рядом с нашей деревней расположилась на ночь воинская часть. Ребята на перебой предлагали свою помощь. Приносили воду, угощали, чем могли, а одни наши друзья, уже немолодые муж и жена, — оба их сына были на фронте, — не отходили от солдат и старались хоть что-то для них сделать, думая наверное, что и их мальчикам вот так кто-нибудь помогает.
Раз в неделю мы с мамой ездили в Москву и забирали хлеб, который получала для нас по карточкам мамина подруга, Елена Владимировна Романова, а мама перевозила все, что только можно было на себе увезти, из дома на дачу, опасаясь, что дом могут разбомбить. Из-за этого, вернувшись в Москву, мы оказались решительно без всего самого необходимого, но об этом позже. Помню, что первое время на большое количество хлебных талонов можно было купить, например, торт, что мы иногда и делали, но так было только в самом начале. А уже очень скоро в магазинах стало пусто. Тогда в Москве любили повторять: «Еще ничего нет, а уже ничего нет. Что же будет, когда что-нибудь будет?»
Итак, мама трудилась в колхозе, я иногда ей помогала, когда надо было полоть гряды и продергивать морковь; выдернутую морковь уносили домой, а когда стали рыть картошку, то тоже немного, как и все, брали с собой в корзинках. Больше всего мама гордилась тем, что научилась косить не хуже крестьян и вообще ей очень нравилось работать в поле, только не было подходящей одежды и обуви. И еще страдала от отсутствия папирос, пока старики не научили ее курить вишневый лист. А вот искусством выпекать хлеб в русской печи она так и не овладела, и когда сообщение с Москвой было прервано, нам пекла хлеб из ржаной муки наша старая хозяйка Татьяна Леонтьевна. Он получался большой, квадратный, с выдавленным в середине крестом, необыкновенно душистый и вкусный.
Снег в тот год выпал очень рано, в сентябре. На всю жизнь я запомнила золотые березы, а под ногами белый ковер, — в этом было что-то траурное и зловещее.
Опасаясь, что Москву ожидает та же участь, что и Ленинград, мама решила остаться в деревне. Прокормиться мы могли, — на мамины трудодни мы получили несколько мешков картошки, капусту и другие овощи и даже зерно, знакомые крестьяне смололи его для нас вместе со своим. Нарезанная тонкими кружочками и высушенная на противне в протопленной печи морковь получалась сладковатая и заменяла конфеты. Кроме того, удалось насушить много грибов, — лето выдалось грибное, и мы часто отправлялись за ними в дальний лес. В погребе еще оставался большой запас керосина. Электричества, как я уже говорила, в деревнях не было, — по вечерам зажигали керосиновые лампы, а летом и готовили на примусе или керосинке. Необходимо было запасти дров на всю зиму, — каждый день мы ходили в лес с пилами и топориками и валили деревья, главным образом березы и ели. не слишком толстые, иначе это было бы нам не под силу, а я ужасно боялась: вдруг поймает лесник. Дома их сами распиливали и кололи, и успели наготовить дров еще до глубокого снега.
Дачники разъехались, за исключением двух, трех семейств, решивших тоже остаться в Свистухе. Вечерами мне становилось особенно тоскливо. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, я принималась рассматривать альбом с открытками Третьяковской галереи — я начала их собирать еще до войны — мама вязала или штопала, но Шишкин и Левитан не очень утешали, и я то и дело смахивала невольно набегавшие слезы, надеясь, что мама этого не замечает. Конечно же, мама замечала все, сама же, прекрасно сознавая опасность положения (еще в октябре писала своим друзьям: «…если узнаете, что меня нет, а Настя осталась жива, разыщите ее…»), держалась на редкость мужественно.
16 октября мы по обыкновению, как это делали каждую неделю, поехали в Москву за хлебом. Сойдя с поезда, сразу у вокзала почувствовали что-то неладное. Трамваи не ходили, и мы двинулись через всю Москву пешком. На улицах пахло гарью, всюду летели, подгоняемые ветром, обгорелые клочья бумаги. Мы пришли не домой, а на Арбат во Власьевский переулок, где жили мамины друзья Е.В.Романова с мужем Владимиром Александровичем Давыдовым, сыном известнейшего в Петербурге исполнителя цыганских романсов, и матерью, покупавшие для нас хлеб. Все говорили, что Москва в этот день будет сдана. Носились бесконечные слухи: где-то бесплатно раздают муку, где-то что-то грабят. Ждали, что по радио выступит Сталин. Потом сообщили, что будет говорить какой-то, если не ошибаюсь, Пронин. Но радио молчало. Взрослые сидели дома, а мы, дети, торчали целый день во дворе у громкоговорителя, промерзшие до посинения. Никакого выступления так и не последовало. Вечером никто не раздевался и не ложился спать. В который раз перед мамой вставал мучительный вопрос: если придут немцы, признаваться или скрывать знание немецкого? И опять говорила о том же с подругой. Если не переводчицей, то как еще зарабатывать, и не потому, что боялась пусть даже самой тяжелой физической работы, но если угонят, что тогда будет со мной, на кого оставить, бросить? А если все-таки переводчицей… Когда снова придут наши, то что тогда!? Ночью стало слышно, что по Арбату двигаются танки. Все были уверены, что это немцы, только утром выяснилось, что через город прошли сибирские войска. Москва не была взята. На следующий день мы уехали обратно в Свистуху.
Не могу точно вспомнить, в каком это было месяце. Нас разбудил среди ночи громкий стук в дверь. Это была пришедшая на постой армейская часть. В дальнейшем такое стало повторяться каждую ночь. Хмурые, измученные, с испуганными лицами солдаты все спрашивали: «А "он" (немец) близко?». Немцы уже были на другом берегу водохранилища, в Яхроме, следующей станции за Туристом, в пяти километрах от нас. Железнодорожный мост взорвали. Поезда по Савеловской дороге больше не ходили. В канале спустили воду так, что лед перекорежился и встал торчком, получились естественные баррикады, и немецкие танки не могли через них пройти. Русский штаб и артиллерия находились в двух километрах за нами, в деревне Кузяево. Практически мы оказались в полосе огня. Снаряды летали через нас. К этому трудно было привыкнуть. Особенно страшно было ходить за водой на родник под обрывом у самого берега, — в деревне колодца с питьевой водой не было. Идешь и каждый раз, как летит снаряд, невольно пригибаешься. От этого невозможно было отучиться. Утром, если стихала перестрелка, мальчишки подбирали на льду так называемые «стаканы» от артиллерийский снарядов. А на том берегу, в лесу, оставалась наша зенитка, и мы с мамой все прислушивались: стреляет, — значит живы зенитчики. Ие знаю, сколько они там продержались.