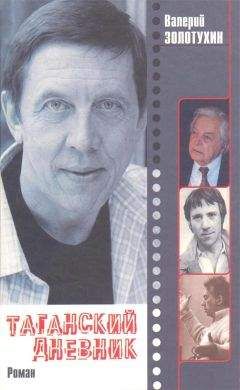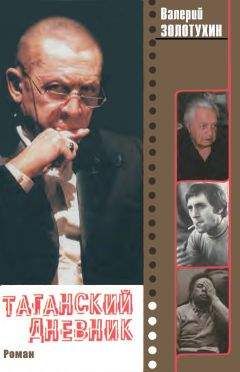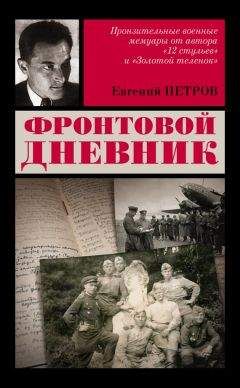Лариса Машир - Дневник детской памяти. Это и моя война
Помню, сделали один раз остановку, чтобы не устроили в вагоне туалет. И тут меня больные ноги подвели, я сорвалась с насыпи и далеко улетела. Потом карабкаюсь к вагону, тороплюсь – уже все там, как бы не уехали, а один солдат взял и ногой спихнул меня назад, я только потом поняла, что у меня был шанс бежать. Но он не знает, что у меня там сестренка! Я снова карабкаться стала. Когда до него поднялась, он тогда со злостью как поддаст мне сапогом, и я влетела в вагон, решил «дура девчонка».
* * *Привезли нас, наголо обрили, пропустили через карантин и выдали одежду лагерную с нашивкой «п» – поляки, черная буква на красном треугольнике. И началось – все дети в обязательном порядке посещали «ревир» – медсанчасть. Мы просовывали руку в окошечко, и медсестра брала кровь. Перед этим обязательно измеряли температуру. У меня бывала она повышенная, тогда я не ходила. Если кто-то потерял сознание и упал, его укладывают на топчан, и он потом должен сам очнуться. Если не пришел в себя, то потом в бараке мы его и не видели. Наш барак был, видимо, детский, кроме детей и подростков были мамы с маленькими детьми. Они нам помогали во всем. Ведь даже плакать не разрешалось…
* * *В декабре 44-го в лагере шум поднялся. Стали рушить крематории. Их было 8. Теперь мы знаем, что в день сжигалось до тысячи заключенных. Освенцим не просто большой лагерь – он огромный. Потом и нас стали перевозить в другой лагерь, как мы узнали потом – в Нойенгамме, это возле Гамбурга. Зима была очень холодная. У нас на ногах деревянные «шузы» на голые натертые ноги. И поверх платьев мы закутывались с головой в наши тонкие одеяла. Мои бедные ноги я все-таки отморозила. Кровь по ним и так плохо проходила. В вагон нас натолкали так много, что сначала мы только стояли. Но холодно было все равно. На этот раз вагон был с крышей! В дороге несколько человек поумирало – от холода ли, от голода или от того и другого. Помню, те, кто был постарше, умерших относили туда, где были щели и сильно дуло. Мы сидели на корточках на полу, на котором сена не было, только доски. Я так закоченела, что выйти сама уже не могла. Нас принимали заключенные в полосатых робах. А солдаты стояли подальше. Но сначала заключенные выносили мертвых – их считали, записывали. У немцев все под расчет! А потом и до нас дошла очередь. Заключенные помогали выходить, меня пришлось выносить. Тот мужчина, который меня нес, тихо спросил: «Откуда?» Я ответила: «Аушвиц». Немцы услышали и собаку спустили. Собака повалила нас, мы кубарем катимся в снег. Меня другой подхватил, потому что встать не могла. А куда тот человек делся, не знаю. Нас в черные машины закрытые погрузили и привезли в лагерь, в барак. Кто-то до нас там жил, потому что помню, не матрасы, а одна труха была. Немцы к нам уже относились лояльно, потому что их гнали. Вопрос – что с нами делать? Ведь огромное количество заключенных, всех не уничтожишь! Нас же еще не принимали, куда нас привозили! Отодвинут двери, посмотрят, потом закроют, и мы стоим на путях, замерзаем.
Потом везут дальше. И так уже не издевались, как раньше, если ты болен, то – на уничтожение.
В этом лагере нас поместили сразу в «ревир» – медицинский барак. Пришел немец, который всех осматривал и давал назначение. С ним были еще немки. У меня и ноги, и руки были отморожены. На ногах раны незаживающие. И у Людвики ноги тоже поморожены, и сердце болело, она вообще бессильная. Ей свое лечение – таблетки, мне свое – уколы и мазь. Хорошо было то, что там дежурили заключенные женщины. Среди них были две польки – Зося и имя второй девушки не помню. Они узнали, что привезли детей с Варшавского восстания и тогда они у нас старались вместо других дежурить. Если где-то умерли, то их порции нам приносили. Старались все время хоть чем-нибудь подкормить. Мы истощенные были еще с восстания. Цинга не давала есть, боль во рту не давала и воду-то пить. А они говорили: «Надо, потихоньку, надо». Даже носки нам достали! И все время говорили: «Вставайте через силу, немцы больных не любят». На обходе с нас требовали часто – «присесть-встать» или какие-то другие упражнения. Людвика меня ругала: «Вставай, или в печку захотела, не там, так здесь!» И я вставала, брала метелку, чтобы видели – я не безнадежная…
* * *И вот апрель 1945-го! У нас появился «Красный Крест» – англичане! Все из бараков вышли во двор, радуются, кричат: «Свобода! Немцы удрали!» Переодели нас в новые пальтишки, ботиночки, санобработка, конечно, была. Все стали группироваться – надо же добираться домой. Кого там только не было – французы, немцы, поляки, русские… Мы поехали с польской группой. Довезли нас до Варшавы. Зося с подругой дальше поехали. Нашли мы нашу улицу Паньскую, оставили маме записку: «Мама, мы здесь. Людвика и Кристина». Там много записок было – все ищут друг друга! Ну, мы пошли поискать поесть. И… решили свою судьбу. Набрели на воинскую часть красноармейскую. У них полевая кухня. Там еще человек 10 детей было. Нас спросили, просто показали – «есть хотите?» Мы согласились. Нас накормили. Потом маму пошли искать. Мамы не было. В какую-то щель забрались, переночевали. Потом опять пошли к ним покушать. И так несколько дней. Мамы все не было. И кто-то из командиров сказал нам – раз негде вам жить, и у вас нет никого, надо ехать туда, где вас будут учить, лечить и крыша будет над головой. Собрали комиссию, выдали нам справки вместо паспортов, сказали, что ты Кристина будешь Ксенией, а Людвика – Лидией. Сколько нам лет мы знали и так – мне уже 14, а сестре – 15. От этой самой воинской части набралось нас круглых сирот на целый вагон плацкартный. И повезли нас в Россию. Была в Бресте остановка, проверка документов, а дальше – Бобруйск. Высадили нас в Бобруйске, и поезд поехал дальше. Что делать, ничего не понимаем. Вокруг все разбито, как в Польше, и трубы печные торчат. Куда идти? Русского языка не знаем. Забились куда-то, переночевали, а утром увидели церковь, пошли туда – как в Польше в костел бы пошли. Священник бородатый встретил нас, повел в каморку, накормил, ночевать оставил, он по-польски понимал и немного говорил. Строго-настрого нам посоветовал не рассказывать никому свою историю – ни про восстание, ни про концлагерь. Мы спрашивали: «Почему?» Он отвечал: «Потом сами поймете». Наконец нашли нужный нам исполком, узнали, что для русского детдома мы переростки. Нам объяснили – вам надо в училище, и язык там учить, а раз ноги отмороженные, надо ехать туда, где тепло – на юг, а не на восток. Короче говоря, оказались мы, как нам советовали, – в Краснодаре, в училище связи. Добирались мы туда на крыше вагона. По-другому уехать было невозможно, все возвращаются с фронта. Нам помогали туда забраться, у теплой трубы пристраивали, подкармливали. На станциях нас милиция забирала – мы выглядели младше своего возраста, а потом отпускала – девать нас все равно некуда. И мы опять ехали на крыше. Так до Сталинграда доехали. Мы про него еще ничего не знали, но многое увидели! Наверное, через месяц мы все же доехали до Краснодара и снова пришли в исполком. В училище мы сначала учили язык. И вообще старались очень! Кроме того, мы ходили в вечернюю школу, у нас ведь не было общего образования. С отличием окончили училище, и нам разрешили самим выбирать точки назначения. Мы выбрали Сочи. Через 3 года работы на Центральном телеграфе мастерами по ремонту мы решили учиться дальше. Людвика захотела уехать в Москву и поступить в Институт связи, ей дали общежитие. А я заболела музыкой, причем давно. И еще я с детства хорошо рисовала и прошла творческий конкурс в Ленинграде. Но! Пришла я все-таки в Московское музыкальное училище им. 60-летия Октябрьской революции на прослушивание. Мой музыкальный слух оценили! Только я не могу сдать специальные экзамены и мне жить негде. Я им так надоела, что в итоге мне разрешили посещать занятия, как кандидату…