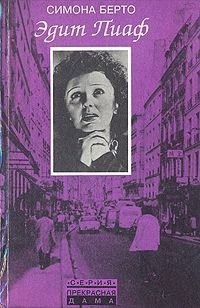Вячеслав Кабанов - Всё тот же сон
А «держи-дерево» Никифоров не мог не помянуть: тот, кому пришлось побродить в горах по этим местам, «держи-дерева» не забудет!
В Новороссийск мы прибыли к ночи и расположились на городском выгоне. Велено было построить шалаши. Палаток не хватило даже для офицеров.
Уж это так, — прибавим от себя. Когда окончилась Крымская война, англичане, природные туристы, сразу сделались экскурсантами и стали осматривать укрепления русских. Укрепления были неплохи, но чего не могли понять англичане: где же русские жили? Ни домов, ни кроватей, как было у них за тысячи миль от дома. Только шалаши из хвороста да кое-где палатки — и то для офицеров!
Бесполезное стояние наше в нездоровой местности усложнялось тем, что в то время маленький Новороссийск не мог дать даже порядочной провизии и фуража для лошадей. Сено мы косили в окружающих нас лугах, но овёс брали в интендантском складе — затхлый и весьма дорогой, особенно для бедных армейских офицеров, получавших что-то около семнадцати рублей в месяц. Нам помогало ещё то, что горцы очень страдали от недостатка соли: в горах пуд соли доходил до двух рублей и более. Ввиду этого генерал Серебряков дозволил офицерам и солдатам покупать у горцев провизию, платя за неё солью. Горцам дозволено было прибыть на базар со своими продуктами, но без всякого оружия, а привезшие его должны были сдать его в караулку; оно возвращалось им при выезде с базара. Масса горцев наехала в первый же объявленный день. Навезли кур, масла, яиц, овса, ячменя, козлов, баранов и даже коров. Торг был для нас выгоден: мы расплачивались за всё солью, доставшеюся нам по 40 коп., а горец считал её по два рубля. Я помню, на первом базаре я купил два мешка овса (около пяти мер), трёх кур и козла и дал за всё это три пуда соли, значит, 1 рубль 20 коп. Большинство горцев была беднота; на них не было даже белья; только оружие у них было в порядке.
А между тем рассказ Никифорова приближается к особо интересующему нас предмету.
В конце июня мы сделали маленький набег на бывшую нашу крепость Гилленджик, оставленную и разорённую при начале кампании. Баталион Бутырского полка пошёл ночью берегом моря налегке, даже без вьюков; артиллерию — два горных орудия — повезли на двух баркасах. Рано утром пришли мы в Гилленджик. Близ города захватили табун горских лошадей. На развалинах города было поставлено несколько деревянных сараев, где турки торговали разной дребеденью, а в бухте стояли три турецких кочермы. Две из них мы захватили, а третья при нашем приближении успела ускользнуть в море. Лавочки были живо разграблены и потом сожжены. Сделав небольшой привал и закусив, мы вернулись в Новороссийск, ведя с собою табун лошадей. Набег наш был так стремителен, что мы, кроме одиночных людей, не видели никаких скопищ и вернулись безо всякой потери в людях. По возвращении устроили аукцион отбитых лошадей, которые шли по 5 и 10 рублей за штуку, хотя многие из них были весьма хороши.
Хотя Никифоров и присвоил Геленджику преувеличенное имя город, всё же поведал о нём слишком мало и так неподробно! Впрочем, какой с него спрос: ведь что ему Гекуба? Он же не знал, что через сто лет кто-то будет перечитывать, и переписывать его записки лишь за одно только упоминание этого имени — Геленджик.
Больше о Геленджике нет у Никифорова ни слова, и всё же не станем сразу прощаться, послушаем ещё немного, потому что нас интересует и сама Кавказская война, будь она в Геленджике ли, в Анапе ль, — а суть её та же.
Вот Никифоров рассказал, как теперь уже горцы попытались отбить у батальона скот и лошадей, но неудачно.
Тотчас через лазутчиков узнали, из какого селения была шайка. Через несколько дней баталион при двух орудиях был направлен туда. Подошли мы ранним утром; на возвышенности поставили орудия и после нескольких гранат зажгли аул. В нём никого не оказалось. Кроме кур и разной рухляди, ничего не было: наверное, жители предупреждены были нашими же лазутчиками. Мы сожгли все хаты, уничтожили огороды, посевы и к обеду вернулись домой.
Такая простая безмятежная картинка. Но что-то давно знакомое она навеяла.
Отряд пошел дальше вслед за горцами, и на склоне второй балки открылся аул.
Бутлер со своей ротой бегом, вслед за казаками, вошел в аул. Жителей никого не было. Солдатам было велено жечь хлеб, сено и самые сакли. По всему аулу стелился едкий дым, и в дыму этом шныряли солдаты, вытаскивая из саклей, что находили, главное же — ловили и стреляли кур, которых не могли увести горцы. Офицеры сели подальше от дыма и позавтракали и выпили.
Это — «Хаджи-Мурат» Льва Толстого. Интересно, что среди восьмидесяти двух газетных, журнальных, книжных и рукописных источников, на которые опирался Толстой, сочиняя «Хаджи-Мурата», воспоминаний Никифорова нет. Как нет и вообще «Русского Вестника». Однако, как видим, совпадения обстоятельств набега удивительны.
Молодой Никифоров тоже, видимо, хорошо пообедал после набега, потому что, как и молодой Бутлер, чтобы удержать своё поэтическое представление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненых. Он до конца своих дней сохранил о молодом времени хорошие воспоминания. И всё бы было хорошо, да только Лев Толстой всё испортил: рассказал про то, что было в ауле, когда ушли, сделав дело, солдаты, то есть священная рука человеколюбивого правителя уже отверзла врата благоденствия.
Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был, проткнут штыком в спину… Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все улья с пчелами…
Фонтан был загажен, очевидно, нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.
Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми…