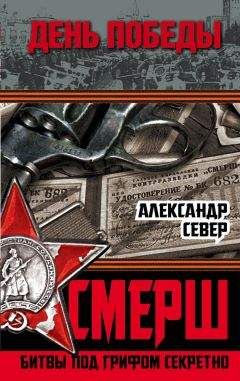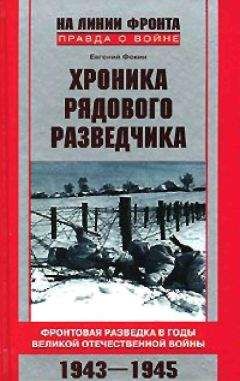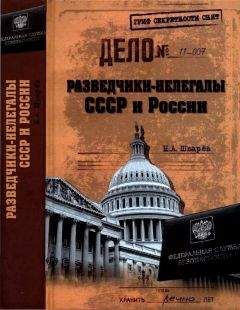Бруно Винцер - Солдат трех армий
– Что вы, мастер! Говорите мне спокойно «ты», как прежде. Да я и не лейтенант вовсе.
– Я пошутил, у тебя с саблей такой вид… Как же ты себя чувствуешь на военной службе?
– Благодарю, особенно хорошо я чувствую себя в отпуску. Но я хотел бы знать, каковы ваши дела. Моя мать мне все рассказала. Вы уже сидели в лагере. Это верно?
– Да.
– В каком?
– В Ораниенбурге.
– Ну и как там?
– Прекрасно!
– Я имею в виду обращение и все прочее.
– Прекрасно!
– А еда, кормят как?
– Прекрасно!
– "Прекрасно, прекрасно! " А что вы там делали? Выли ли там занятия по программе национал-социалистской партии? Поговаривают, что там учат…
– Мне объяснили, что национал-социализм есть нечто прекрасное.
– Мастер, вы меня разыгрываете! Со мной ведь можно говорить начистоту.
– Очень жаль, мой милый, но я вынужден был дать подписку, что о своем пребывании в лагере не буду рассказывать. Я даже не имею права говорить, что не имею нрава об этом говорить. Прекрасно, не правда ли?
Беседа стала тягостной. Мне показалось, что в рассказе мастера не все верно. Я полагал, что он несколько преувеличивает. Я не винил его за горечь от того, что нацисты взяли верх. Когда я спросил о моих старых друзьях, то получил короткий ответ:
– Все четверо работают!
– Но ведь это же прекрасно, мастер! – вырвалось у меня.
Он снова испытующе посмотрел на меня поверх очков и, убедившись, что я не смеюсь над ним, добавил:
– Да, это прекрасна. Все четверо наконец имеют работу. Однако все, что они производят, окрашивают в серый маскировочный цвет. Их продукция предназначается для вас, для рейхсвера, для вооружений, для войны. Прекрасно, правда? Вот видишь, я опять дал волю языку, и, будь здесь не ты, а какой-нибудь грязный доносчик, они бы меня снова забрали и избили. Я бы уже не вернулся обратно так быстро, этим они мне и угрожали в Ораниенбурге. А теперь уходи подобру-поздорову – для тебя небезопасно так долго разговаривать с коммунистом! Того и гляди, и о тебе пойдут разные слухи.
– Вы преувеличиваете, мастер!
– Нет, мой мальчик, не преувеличиваю. Мы еще поговорим когда-нибудь. Ты вспомнишь обо мне.
– Ладно, мастер, передайте от меня привет ребятам!
Рут уже ждала меня. Комнату ее отличало гармоничное сочетание порядка, привитого воспитанием, и «художественного беспорядка»; при этом в ней не было и следа неряшливости, свойственной «берлогам» некоторых псевдохудожников, которые считают посягательством на их внутренний мир, если им советуют вытирать иногда пыль или при случае подстричь волосы. У окна стоял мольберт со всеми принадлежностями живописца. Мирок, где царила Рут, был уютным, современным и изящным без претенциозности.
В словах, которыми Рут меня встретила, звучало разочарование:
– Ну вот, я жду тебя целый час, сварила кофе, как ты любишь, купила на свои карманные деньги неплохой коньяк и радовалась встрече с тобой, а кто же ко мне пожаловал? Бог войны Марс с нелепой саблей.
– Извини, пожалуйста! Но что это на вас всех нашло? Третий раз меня сегодня попрекают моей саблей и поминают войну.
– Значит, есть еще здравомыслящие люди. Это все-таки отрадно. Я знаю, что ты всегда наносишь свой первый визит в мундире, но меня, пожалуйста, избавь! Снимай свою куртку и будь человеком! Иди сюда, садись!
– Во-первых, это не куртка, а китель. А во-вторых, меня уже сделали человеком на первом году военной службы. Будь же ко мне немножко ласковей.
– Я и так ласковая. Откупорь лучше бутылку! Выпьем сначала за встречу, а потом – чтобы было хорошее настроение. Я в этом нуждаюсь.
– Почему?
– Ах, ты этого не поймешь!
– Для этого я должен знать, в чем дело.
– За твое здоровье и добро пожаловать!
– Спасибо! Но почему ты отмалчиваешься? Ты что, не можешь освободиться на время моего отпуска?
– Могу. Не в этом дело. Напротив у меня вообще пропала охота к учению.
– А что случилось?
– Ничего. Все в порядке, даже весьма. Ведь, по-твоему, теперь наводят порядок? Да ты не имеешь никакого представления обо всем, что здесь произошло.
– Кое-что я все же слышал. Как раз сейчас разговаривал с сапожником, но я не понимаю, какое отношение это имеет к тебе!
– Огромное, милорд. В университетах сейчас все вверх дном. Самые любимые и лучшие профессора выгнаны или ушли по собственному желанию. Начинается это и у нас. А во что превратили живопись? Ей предписано только черно-бело-красное и коричневое. Через два или три года мы будем все малевать коричневым по коричневому: коричневые луга, коричневые горы, коричневые дома, коричневотелые девы, коричневые рубашки, Может, мне стать маляром, как этот…
– Кто этот?
– Ах, я забыла, ты ведь тоже нацист! Пойми меня, пожалуйста! Я хочу писать то, чем я живу. Я работаю для тех, кому моя живопись нравится, а не по команде коричневых.
Рут сидела на тахте, как маленький гневный будда. Она вынула сигарету из шкатулки, которую я ей подарил, и, прежде чем я успел подать спичку, она закурила от своей зажигалки очень быстрым движением – признак того, что она нервничает. Затем продолжала:
– А как обстоит с литературой? Хорошие книги сжигаются, а известные поэты внесены в список запрещенных авторов, не говоря уже об иностранных писателях. На литературу напялили каску. Науку обрядили в военный мундир, пресса в путах. В кино идут почти исключительно военные фильмы, школьники носят одинаковые белые чулки и усваивают еще более дурацкие идеи, чем мы в нашей школе, а по радио мы слышим либо патриотическую пошлятину, либо грохот барабанов. Все это до того противно…
– Ты это говоришь как дочь…
– Ну да ладно, я это говорю как дочь одного… и так далее, и так далее. Я – это я, милый, поэтому я и остаюсь дочерью своего отца.
Рут встала и в волнении зашагала по комнате. Наконец она остановилась перед мольбертом, взяла в руки кисть, затем мрачно положила ее обратно, как бы покоряясь судьбе.
– Нет, работа меня больше не радует. Понимаешь? Я могла бы рисовать карикатуры, да еще какие! Ты бы лопнул со смеху, если б их увидел…
– А что говорят другие студенты?
– Другие? Но ведь им надо соблюдать осторожность! Кое-кто формирует нацистские группы. Всем нам полагается в них вступать. Конечно, не иностранным студентам. Большинство их уезжает домой или просто едет туда же, куда и их профессора. Мы себя совсем изолируем. Но мои знакомые и не подумают участвовать в этой нацистской шумихе. Каждый из нас остается самим собой.
Разумеется, от таких разговоров на душе становилось невесело. Прежде, когда мы с Рут бывали вместе, мы не тратили слов на политику и нас ничто не тяготило. Правда, Рут никогда не скрывала, что она не любит мою профессию и военную форму, не приемлет «всю эту солдафонскую ерундистику». Но это не отражалось на нашей дружбе. Теперь между нами встала политика, она угрожала нам. Я пытался понять Рут, но мне это было нелегко.