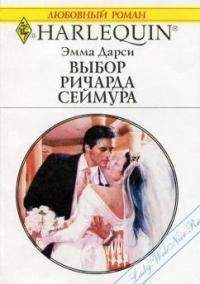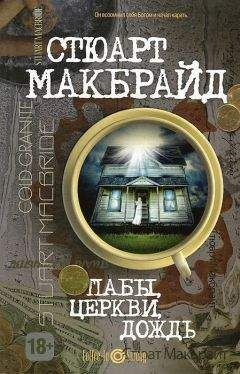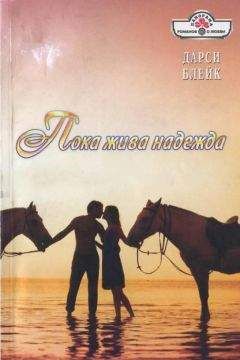Борис Дьяков - Повесть о пережитом
Да, у надежды и у тоски время разное…
— После писем жены всегда хотелось делиться радостью с другими. На этот раз я решил пойти к Тодорскому. Месяца два назад его положили на койку. Снова трофическая язва. Теперь лечение заканчивалось. Александра Ивановича назначили ночным дневальным в одиннадцатом корпусе.
Тодорский сидел на крылечке, в коротком до колен халате, в шлепанцах на босу ногу. В глаза бросались синеватые узлы набухших вен. Лицо изнуренное. Огрызком карандаша что-то царапал на дощечке — «блокноте». Припомнился рассказ Александра Ивановича, как он в околотке тайком писал конспект по истории партии, а врач испугался, подумал — донос.
— Опять доносы строчишь? — пошутил я.
— Так точно. На самого себя.
— Заявление?
— Нет. Поэму складываю.
— Ты? Поэму?
— Я. Поэму.
— Не знавал за тобой такой доблести…
— Признаться, для меня самого неожиданно.
— Тогда совсем ничего не понимаю!
Тодорский вздохнул.
— Помимо поэтов и влюбленных, стихи пишут и старики, любящие жизнь. Тем более в юные годы, в Весьегонске, баловался стишками… А тут, ты знаешь, я ночной сторож в корпусе. Днем, среди людей, не так остро чувствуется безысходность одиночества. А вот ночью, в пустом широком коридоре, ты — как бездомная сова!
Он отложил дощечку в сторону, уронил руки между коленями, сцепил пальцы.
— Вот тогда, без бумаги и карандаша, складываю я строчку за строчкой, катаю слова в голове, леплю из них что хочу. Целую мечту-поэму сложил! С нею легче дышать…
— О чем же и о ком поэма? — спросил я, понимая, какую сокровенную частицу души открывает Александр Иванович.
— Моя героиня — комсомолка, колхозная почтальонша Уля… Хорошее имя, не правда ли? Уля…
Прищурясь, он стал смотреть вдаль, на полинявшее небо.
— Послушай, товарищ, в каком глухом углу она обитает…
Медленно, спокойно, словно разглядывая картину, Тодорский прочитал:
Здесь снег на крышах новым домом
Держался цепко на вису,
А под замшелым буреломом
Медведь ворочался в лесу.
Мощами девственниц нетленных
Не прогремел монаший скит,
А из глубин седой Вселенной
Не выпадал метеорит…
— Ну вот… И однажды в морозную вьюгу, когда Уля везла на подводе почту и в сумке пакет председателю колхоза, повстречался ей на таежной дороге… английский министр Моррисон!
Александр Иванович улыбнулся, положил мне руку на плечо.
— Захотел я и устроил им свидание! Вот так… Моррисон, конечно, был потрясен не меньше, чем ты сейчас. Начал расспрашивать Улю: какая цена трудодня и можно ли на эти деньги купить хотя бы иголку? А Уля… у нее язычок — дай бог!
За трудодень моя зарплата?
А неугодно ли понять,
Что вся английская палата
Меня беднее во сто крат,
Что я с такими трудоднями,
Как и любая из подруг,
Не поменяемся местами
С самой Шарлоттой Люксембург!
Из корпуса вышли два санитара с деревянными подносами и протиснулись между нами.
— Мешаем здесь… Пойдем-ка вон в ту гостиную, — предложил Александр Иванович.
Присели мы на завалинке, вблизи корпуса. Я забыл, для чего и пришел, — так внезапно было то, что услышал.
Тодорский закурил цигарку.
— Раскрою тебе, товарищ, одну мою мысль… Поэма — вся в голове. Вот перепишу…
— Я дам тебе бумаги.
— Спасибо… Ты слушай, слушай!.. — Подвинулся ко мне, вздохнул всей грудью. — Перепишу и отправлю Сталину. Может, прочтет… Попрошу заменить последний, самый тяжкий лагерный год высылкой на Север. Наймусь колхозным сторожем, буду в свободное время писать… Самое постыдное — быть бесполезным для людей, для общего дела, — горестно произнес он.
Нетерпеливо взглянул на меня:
— Ну как, послать или нет?..
— Сталину? — переспросил я в раздумье. «Попадет ли поэма к нему? А если не решатся передать? Отпишутся, откажут… Тогда к душевным ранам Тодорского прибавится еще одна. Ну, а если и передадут, что будет?»
В моей памяти, как в старой книге, раскрылась еще одна страница…
…Тридцать восьмой год. Сталинград. Я и Михаил Пенкин впервые вместе начинаем писать пьесу. Тему подсказал коллектив тракторного завода: оборона Царицына. Архивы, музеи, встречи с участниками эпопеи… Через два года пьеса «Крепость» вчерне закончена. Ее консультирует Емельян Ярославский. Приезжаем в Москву. Читаем драму Фотиевой — бывшему секретарю Владимира Ильича. Одобрение! Нас захлестывает радость… И нежданно-негаданно вызов к должностному лицу, опекающему театральное искусство.
Кабинет маленький, стол большой. В кресле средних лет костлявый мужчина. Утомленные глаза. Нервические движения рук и головы.
— В общем и целом пьеса мне понравилась. Так? Но…
Долго ищет записи в блокноте. Почесывает карандашом переносицу. Нервничает.
— Вам удалось подметить некоторые черты в характере Ленина, но…
Отвечает кому-то по телефону коротко, междометиями. Раздраженно опускает трубку.
— Не кажется ли вам, что в пьесе Ленин заслоняет Сталина?
Встает, ходит по кабинету. Говорит, вздрагивая всем телом:
— В обороне Царицына основную роль играл Иосиф Виссарионович. Так? А в пьесе Сталин вроде как исполнитель, поддакивает Ленину. А это нежелательно. В том смысле нежелательно, что образ теряет остроту, становится ну… на втором плане, что ли… Так?
Опекун возвращается за стол. Молчит. И наконец, набравшись духу, выносит приговор:
— Образ Ленина из пьесы надо исключить!
Смущенно глядит на вспыхнувшие наши лица. И как бы оправдывается:
— Искусство — вещь капризная… Потом у вас… Ленин выписан как человек и вождь, а надо… как вождь и человек… Вот!
Смолкает, будто слово застряло у него в горле.
— А что, если мы сами пошлем пьесу Иосифу Виссарионовичу?
— Что вы, что вы!
Поднимается, давая понять, что беседа кончилась. Протягивает вялую руку:
— До свидания! Желаю творческих успехов!
Как заблудившиеся, бродим мы по осенней Москве. Сидим на скамье в сквере. Над нами — низкое хмурое небо. С деревьев срываются желто-красные листья и, дрожа, падают к нашим ногам.
Пьеса ложится в стол…
— Что же ты молчишь? — спросил Александр Иванович.
— Попробуй послать. Не хочу думать, что перед тобой опустится шлагбаум!
Пришли санитары. На подносах — этажи мисок, прикрытых фанерными кружками. Прозвучали удары о рельс: обед.
— Александр Иванович! — послышался голос.