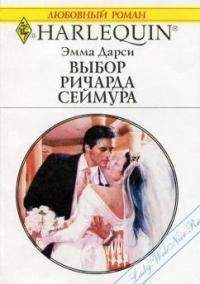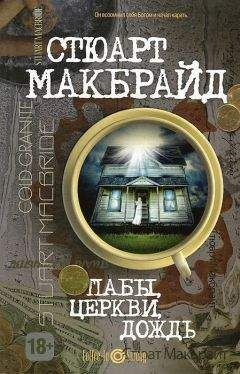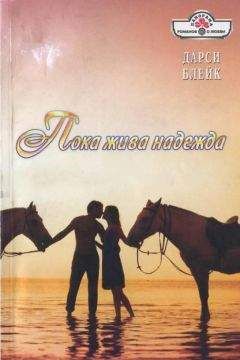Борис Дьяков - Повесть о пережитом
Погрузившись в бумаги, мы не услышали, как кто-то вошел в канцелярию.
— Добрый день! — прозвучал чужой голос.
В дверях стоял разморенный жарой мужчина низкого роста, темнобровый, с живыми искорками в глазах. Без головного убора, в распахнутом дождевике поверх штатского костюма, с полевой сумкой в руке, он походил на приезжего бухгалтера или снабженца. Но все равно — вольнонаемный. Положено встать. Мы поднялись.
— Сидите, сидите! — Штатский положил сумку на барьер, вытер потный лоб носовым платком. — Фу-у, жарковато… Вода у вас есть?
— Одну минуту!
Толоконников метнулся в кабинетик начальницы канцелярии, принес эмалированную кружку.
Выпив залпом воду, штатский сказал:
— Я — ваш новый оперуполномоченный. Фамилия моя — Комиссарчик. Слыхали о таком?
— Так точно! — четко ответил Толоконников. — Вы были на двадцатой колонне?
— Да и сейчас еще там. Пока что буду совмещать. — Он вынул из полевой сумки записку. — Распоряжение начальника больницы… Мне нужна справка о мортальных за прошлый год и за эти пять месяцев. Сумеете приготовить к вечеру?
— Сведения под рукой, гражданин начальник, — ответил я.
Он хитровато улыбнулся.
— Правильно работает контора!.. А курить в этом доме разрешается? — спросил он, присаживаясь на табурет. — Прошу!
Вынул коробку «Казбека».
— Покорно благодарю! — Толоконников взял папиросу и — за ухо. — Про запас! — объяснил он, поймав вопросительный взгляд Комиссарчика.
Получив нужную справку и оставив Толоконникову «про запас» еще несколько папирос, новый опер ушел.
Вечером, когда все стихло и в канцелярию никто больше не заходил, мы принялись за газеты и журналы. Вслух прочитали очерк о Цимлянской гидроэлектростанции. Засмотрелись на фото нового Цимлянского моря, на первомайскую Красную площадь, на залитое огнями высотное здание Московского университета, на портрет покойного Всеволода Вишневского в «Огоньке»…
Да, думал я, рано умер Вишневский… Большой писатель… А следователь Чумаков добивался от меня показаний о «преступных связях» с Вишневским. И все на том основании, что при обыске в моем рабочем столе нашли служебную записку Всеволода Витальевича!..
Мы ушли из канцелярии после того, как до корки прочитали журналы: Толоконников — в барак, а я с «Огоньками» — к Конокотину.
В приплюснутом крышей окне землянки дрожал блеклый свет.
— Свежие журналы! — крикнул я с порога.
Орест Николаевич обрадовался. Потирая руки, налил крепкого чая в пол-литровые банки, сел за стол и развернул журнал. Цимлянский пейзаж поразил Ореста Николаевича.
— Что бы ни было, а жизнь идет вперед, — задумчиво проговорил он. — И без нас большие дела делаются… — С отчаянием взглянул на меня. — Но почему без нас?! Почему?!
Судорожно скомкал журнал. Незакрывавшийся глаз остекленел. Спохватившись, начал разглаживать помятые страницы. Переждал, покуда немного стихнет внутренняя дрожь.
— Мои следователи Иванов и Немлихер… не советские следователи. Ведь знали, прекрасно знали, что я никакой не националист… и тем более не поддельный Конокотин… Я был депутатом Моссовета, пропагандистом, окончил академию Фрунзе… Все, все это они отлично знали! Но им… нужно было сделать из меня врага… И они фабриковали этого «врага»… на сорока ночных допросах!.. Пейте, что же вы?.. Да, я сахар забыл!..
Он вынул из тумбочки пачку рафинада, из недавней посылки.
— Однажды, — рассказывал Конокотин, — в Лефортовской тюрьме… было это в тридцать восьмом… Иванов вызвал меня поздно вечером.
— Сегодня даю тебе выходной, — заявил он. — Но условие: помоги составить доклад о Шестом съезде партии. Нужно читать для кандидатов…
— Вам? Доклад? — недоумевал я.
Иванов приблизился ко мне вплотную. От него всегда пахло перегаром водки и луком, а в этот вечер так сильно, что я невольно отшатнулся.
— Не бойся, — мягко проговорил Иванов. — Ты — старый большевик, Орест Николаевич. Неужели позволишь, чтобы я городил всякую там чушь кандидатам партии?
Я обрадовался. Решил: следователь прозрел, пошел на мировую.
— Ну что же… Берите бумагу, Алексей Иванович, — сказал я.
Он сел за стол, как за парту. Более трех часов длился урок. Когда я продиктовал, что в июле семнадцатого года Ленин предложил временно снять лозунг «Вся власть Советам». Иванов швырнул ручку:
— Ты что, хочешь под монастырь меня подвести?!
Я пояснил, что Ленин в данном случае имел в виду Советы, где заправляли тогда эсэры и меньшевики, и даже сравнивал эти Советы с баранами, которых привели на бойню, а они от страха мычат.
— Возьмите, — говорю, — Сочинения, все там и найдете.
Только мы закончили исправлять ошибки и неточности, заявился старший следователь Немлихер. Помню, у него было страшно измятое лицо.
— Ну как, Алеша, дает арестованный показания? — спросил он.
— Какой там! Глумится над следствием! — гневно выпалил Иванов. — Всякую ересь несет! Советы баранами называет, на Ленина клевещет!.. У меня нет больше сил возиться с этим вражиной!
Распаленный Немлихер наотмашь ударил меня по лицу. Я упал со стула, как мешок… От щелчка мог свалиться, весил-то тридцать с чем-то килограммов! Немлихер выругался, ушел, а Иванов исступленно кричал:
— Что ты со мной делаешь, Конокотин?! Я с ума сойду!.. Что ты делаешь!..
Вызвал по телефону конвоиров.
Я лежал, как запеленатый в железные обручи. Не помню: соображал ли, что случилось? Скорее всего, был в состоянии полнейшего угнетения и безразличия… Пришли солдаты. Иванов носком сапога пнул меня в бок:
— Заберите падаль!
…В землянке внезапно погасла лампочка. Конокотин вывинтил ее, зажег спичку, проверил. Руки у него тряслись.
— «Люстра» не перегорела. Значит, движок сдал…
Мы продолжали сидеть в потемках. Только в углу светился, как памятник лунной ночью на кладбище, громоздкий термостат.
Конокотин продолжал с заметным напряжением мысли:
— На суде я рассказал председателю Романычеву о преступном следствии. А он, знаете что, этот адвокат дьявола?.. Вы, говорит, считаете себя большевиком, а большевики должны преодолевать все трудности. Зачем же подписали фальшивые показания?
Орест Николаевич вдруг яростно закричал, словно увидел перед собой Романычева:
— «Зачем»?! А зачем вы сидите в судейском кресле с Гербом Советского Союза, если не знаете, не чувствуете, как сфабриковано мое дело, не видите, что протоколы написаны не чернилами, а кровью?!
В землянке густая тишина переплелась с темнотой. Лишь слышно было, как порывисто дышал Конокотин. Чай в кружках остыл. Мы к нему и не прикоснулись.