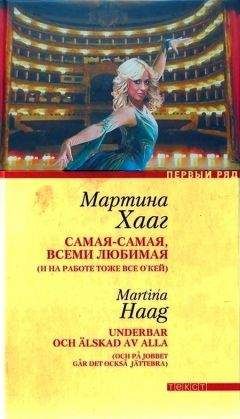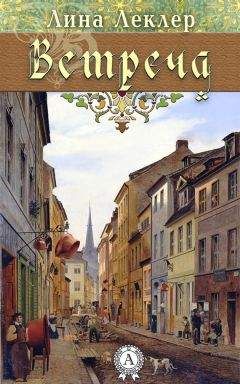Лина Хааг - Горсть пыли
— У нацистов, — говорит старушка. Так она и сказала господам. И, хихикая, она повторяет: — У нацистов! — За это ее и посадили.
— Вот видите, — предостерегающе говорит надзирательница и гремит связкой ключей, — вот вы за это и получили!
— Но это еще не все. Через несколько месяцев старушка умирает в пути, во время перевода ее в другую тюрьму.
Наконец мне дают швейную машину. Я получаю ее после нескольких моих просьб начальнику тюрьмы о предоставлении работы.
Ее доставляют мне в камеру. Она уже старая, но для меня самая красивая швейная машина на свете. Любуюсь ею как чудом, обнимаю обеими руками и бережно ставлю на место. Камера мгновенно преображается. Преображаюсь и я, исчезает состояние мучительной слабости, настигавшее меня в определенные часы, новая надежда наполняет мое измученное сердце. Отныне каждую неделю мне приносят для починки большую корзину белья. Иногда я буду работать с помощницей, утром ее будут приводить, а вечером уводить.
Однажды в мою проклятую камеру врывается жизнь, которую я уже или еще не знаю, бойкая, смеющаяся, с кокетливыми движениями и пышными формами, румяными щечками и пухлыми губами.
— Я Фрици, — весело говорит красивая блондинка.
Я озадачена, мне требуется какое-то время, чтобы прийти в себя. Очень уж ошеломила меня непривычная, веселая и радостная непосредственность.
— Ишь как уставилась, — смеется Фрици и берется за свою прическу, — что, неплохо?
Теперь смеюсь и я.
— То-то же, — говорит довольная Фрици, — я уже думала, ты совсем не умеешь смеяться.
Она испытующе смотрит на меня, неожиданно берет за плечи, поворачивает лицом к свету и говорит:
— Думаю, милая, тебе надо немного отвлечься. Не беспокойся, для этого я как раз самая подходящая.
Фрици самая подходящая. Я снова живу. У нее я учусь снова смеяться. Человек. Откровенный до бесстыдства, но в своем бесстыдстве отнюдь не подлый и низкий. Весь день она непрерывно разговаривает. Белье, которое мы должны чинить, для нее дело второстепенное. Раньше она была прислугой, но никогда добросовестно не работала. Это видно. Она и не собирается работать. Она хочет жить. Жить своей жизнью, жизнью веселой и без проблем.
Фрици хочет знать, почему я здесь. Она не лукавит, спрашивает без задней мысли, я это вижу, она просто любопытна. Я рассказываю ей о нашей борьбе. Некоторое время она стоит, безмолвно на меня уставившись, потом звонко смеется. Этого она понять не может.
— Я по крайней мере знаю, почему я здесь, ты — нет. Не так ли?
— За подготовку к измене родине, хотя это всего лишь предлог.
— Что такое измена родине? — спрашивает она. — Я кое-что стибрила, вот почему оказалась здесь.
У нее свои представления о социальной справедливости.
— Ни одна свинья ничего тебе не даст, если ты сама себе не поможешь, — говорит она убежденно.
По самой сути своей она совершенно мне чужда, мы абсолютно разные люди, но она мне помогает, развлекает и поднимает настроение. У одного из своих пожилых любовников, когда тот был пьян, она выкрала из бумажника деньги. Поэтому она недовольно ворчит.
— Четыре месяца тюрьмы, за это он заплатит, эта скряга, этот подлец, когда выйду, я за него возьмусь, я с ним разделаюсь, моя дорогая, я его так отдубашу, все зубы повыбью, не сойти мне с этого места!
Не знаю, действительно ли она обладает такой властью над мужчинами. Возможно, немного и прихвастнула. Во всяком случае, рассказывает она довольно забавно.
— Не поверишь, — говорит она, — до чего глупы мужчины. Увидят женскую грудь и сразу теряют голову. — Она открыто признается в том, что никто ее не соблазнял. Она сама решила из своих прелестей извлекать выгоду. — И немалую, — говорит она.
Иногда наша надзирательница останавливается у глазка и подслушивает. Она отъявленный шпик. Фрици страстно ее ненавидит и откровенно это показывает. Всегда, когда эта отвратительная женщина подслушивает, Фрици с особым удовольствием рассказывает самые хитроумные истории. В этих случаях мы делаем вид, будто и не подозреваем, что нас подслушивают. Я стучу на швейной машине, Фрици с хорошо наигранным рвением сортирует белье и говорит так громко, что стоящий за дверью наверняка ее слышит.
— Знаешь, наша надзирательница отвратительная баба, и все же, уверена, бедняжку стоит пожалеть. Подумай только, к ней в постель никогда не заберется ни один мужик.
Так и помрет старой девой! Разве не ужасно?!
Тень у глазка исчезает. Фрици хохочет. Грустную ситуацию она превращает в развлекательный спектакль.
Иногда мы философствуем. Свое мировоззрение Фрици формулирует коротко и исчерпывающе.
— Я хочу жить! — говорит она. — Радуйтесь жизни, — весело напевает Фрици, — пока горит огонек.
Впрочем, разве это не девиз доктора Лея? Не девиз так называемого национал-социалистского содружества «Сила через радость»? Не девиз, который вдалбливается миллионам рабочих, приветствующих Гитлера возгласами ликования на празднично украшенных многоцветными флагами площадях?
«Розу сорви, пока не увяла она», поет мелодичным голосом Фрици. Она ведет себя так, словно находится не в камере, а у себя дома в уютной комнатке. Ее не волнует ни решетка на окне, ни запертая дверь. Не угнетает узкая голая камера. Но ведь мы с тобой пленники, ты и я. Пленники не только по вине гестапо, но по доброй воле. Хорошо, мы избрали этот путь. Путь, проходящий через тюремные камеры и бараки концлагеря.
— В сущности, — говорю я, — мне жаль тебя, Фрици. Ты могла бы быть отличной женщиной.
— Могла бы быть? — говорит она и смеется. — Я же такая и есть! Не веришь? Спроси у мужчин!
Такова Фрици.
Однажды вместо нее входит бесцветная маленькая женщина. Она даже не вошла, а как-то незаметно прошмыгнула. В камере она выглядит еще меньше, чем на самом деле. Она робко рассказывает, что ее вовлекли в воровскую компанию. Корчит благочестивую мину, но глазки юрко бегают по сторонам. Я разочарована, огорчена и отмалчиваюсь. Она мне совсем не нравится. Уже одно то, как она сидит и сладким голоском пространно говорит о разных вещах, внушает подозрение. Она не высказывает своего мнения, лишь затрагивает какую-нибудь тему и ждет, что скажу я. Мои ответы односложны и осторожны. Я убеждена, что сделай я хоть одно замечание на политическую тему, она поймает меня на слове и тут же донесет. К счастью, она остается у меня всего несколько дней. Я рада-радехонька, когда ей на смену приходит Клара.
Клара очень милая женщина. Я сразу почувствовала к ней симпатию. В ее судьбе нет ничего необычного. Необычной она становится только в руках гестапо. Она мать, как и я. На протяжении многих лет была доброй, верной женой, пока в один прекрасный день не связалась с другим человеком, который проявил к ней больше внимания и нежности, нежели придирчивый, всем и всегда недовольный супруг. Ее другом стал врач, по национальности еврей. Тем самым маленькая любовная история приобрела политическую окраску, а нарушение супружеской верности стало «осквернением расы». Для гестапо это была чистая находка. Бедную женщину затаскали по допросам, на которых нагло и с удовольствием выспрашивали об интимных подробностях этой дружбы. Каждый раз после таких допросов она возвращалась в камеру совершенно без сил и дрожащей от стыда. И сейчас, если кто-нибудь проходит по коридору и гремит связкой ключей, она вздрагивает от испуга и хватает меня за руку. Так велик ее страх перед этими допросами. Допрашивают ее преимущественно по воскресеньям. В этот день изнывающие от скуки гестаповцы не знают, чем бы им заняться. Особое удовольствие доставляет им гнусными вопросами вырывать у бедной женщины все новые подробности, каждый раз нагло потешаясь над ее переживаниями.