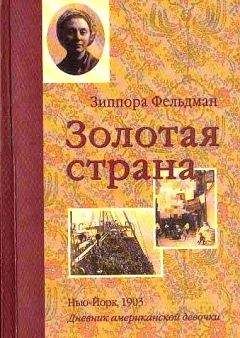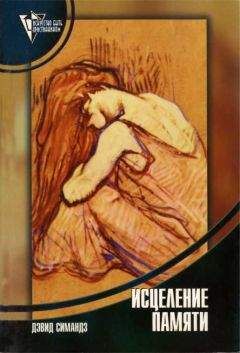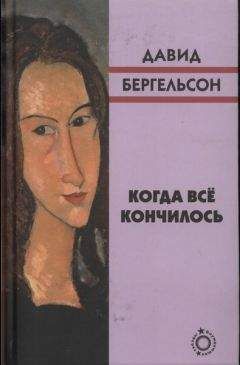Дэвид Роскис - Страна идиша
Может быть, Рут и была семейным летописцем, но первым мамин запрет на возвращение в прошлое нарушил мой брат Бен. Война, настаивал он, уже закончилась, а прошлое — это не оккупированная территория. Его достопамятная серия поездок за границу, как оказалось, была актом самопознания, увенчавшимся самым смелым маневром — алией, иммиграцией в Израиль. Таким образом, он первым из нас начал использовать прошлое для добывания воображаемого будущего — и терпеть неудачу.
Его заграничное турне торжественно открыла поездка в Баку, СССР, к родственникам его жены, где они познакомились с ее младшим двоюродным братом Сашей Векслером. Саша был страстным сионистом, а поскольку в начале шестидесятых такое еще было в диковинку, Бен контрабандой вывез его поэму «Я еврей» и на ближайшем семейном седере зачитал ее нам в английском переводе. Приехав в Москву, Бен умудрился разыскать (через маминых друзей в Варшаве) адрес Иды Эрик.
По сделанным Беном фотографиям невозможно определить, была ли Ида напугана их встречей и было ли ей трудно рассказывать об аресте Эрика и его смерти в советском лагере (слово «ГУЛАГ» тогда еще не вошло в наш лексикон). Мама мельком взглянула на фотографии Бена и рассеянно улыбнулась, в ее воображении возник круг ее друзей — таких маленьких на фоне массивного виленского вокзала, — которые пришли провожать Эрика, Иду и их полуторагодовалую дочь Нелли. Эрик ехал в Минск получать профессуру в учреждении Белорусской академии наук, для польского еврея конца 1920-х годов достижение мессианских масштабов — Советский Союз был средоточием неслыханных мечтаний.
«Советский Союз — это нечто совершенно удивительное, — писал оттуда Эрик, — на центральном вокзале вас встречает надпись МИНСК на идише и русскими буквами, и Лейбл был бы здесь очень полезен, но для Маши тут все слишком грубо».
В мамином мире у городов, как и у людей, был определенный моральный статус. На любое человеческое обиталище имелось Божественное изволение. Был Бейт-Эль,[170] и был Содом, были вместилища пороков Египта, и был утраченный Храм в Иерусалиме. В обезумевшем мире, в котором царили произвол и распад, были устроены также несколько городов-убежищ.
Еврейский Вильно и советский Минск, как я знал с юных лет, располагались на противоположных полюсах, первый был символом верности, а второй — предательства. Поэтому, когда Макс Эрик упаковал свою библиотеку и сел вместе с женой и малюткой дочерью на поезд в Минск, это никак нельзя было счесть мудрым или даже смелым шагом на пути к карьере. Он отвернулся от Вильно. Не важно, что в Вильно этот выдающийся ученый в лучшем случае мог надеяться на почасовое преподавание литературы в еврейском Реалгимназиум, профессиональном училище с научной и идишской программой, которое польский министр просвещения отказывался признавать, в то время как в Минске, в Белорусской академии наук, он бы получил профессуру, возможность вести исследования и постоянно публиковаться. (Сегодня его научные труды и критические статьи — мой кусок хлеба с маслом.) Эрик покинул Вильно, усыновившую его Матерь Всех Городов, и перешел на Другую Сторону. Минск, в немалой мере благодаря громадному таланту Эрика, превратился в теплицу радикальной идишской культуры Советского Союза, и оказался в 1937 году первым кандидатом на чистку, Сталин же служил орудием Божественного гнева.
Как обычно, предполагалось, что я должен самостоятельно соединить разрозненные части. Мамино воображение все еще было приковано к той сцене на виленском железнодорожном вокзале, более в наставление Бену, чем мне, ведь ее первенец не слишком часто удостаивал ее своими посещениями, из-за его женитьбы на Луизе у мамы началась менопауза, не говоря уже о глупейшей затее дать всем трем детям имена на букву J,[171] вместо того чтобы назвать их в честь умерших родственников, и еще, совсем недавно, додуматься переехать в новое еврейское предместье Коте-Сент-Люк, дабы быть принятыми в синагогу рабби Гартмана, Тиферес Иерушалаим,[172] — с каких это пор ее чадо стало столь набожным, что возникла потребность в руководстве раввина? Сему блудному сыну, несомненно, нужно напомнить о его корнях, и, соблазняя его единственным доступным матери способом, она предлагает Бену сесть за фортепьяно и сыграть ту русскую балладу, которую она когда-то пела, а он так любил слушать, но Бен заехал только показать ей фотографии и не может остаться даже на чашку компота, поэтому она удовлетворяется моим обществом и, усевшись напротив меня за покрытый белой эмалью кухонный стол, начинает рассказывать, как пять месяцев спустя та же компания друзей собралась, чтобы проводить ее с моим отцом, уезжавших в противоположном направлении, на фабрику в город Кросно, известный своими стеклодувными фабриками, в Южной Польше.
Долог был этот день, четырнадцатый день февраля 1930 года, Маша тогда наплакалась вдоволь, особенно когда Лейбл поднялся за столом в доме Гриши и дерзко провозгласил: «Я поднимаю этот бокал за детей Фрадл Мац!» Крепко державшие ее нити рвались одна за другой, и вот в последний раз она среди своих лучших друзей — Ривеле, Пинхес, Шмуэль и Ривче Дрейер, Йосеф, Шлойме, Фима, Саша, теперь наступил их черед спеть ей последний шлягер Мойше Бродерзона,[173] который благодаря дерзким рифмам превратился в постоянного сочинителя песен для «Арарата», обошедшего Ди Банде и ставшего ее любимым кабаре. И вот, отринув страх, они громко поют в польском городе Вильно:
Оставь-ка заботу, надежду отринь,
Пока еще длится сегодняшний день.
Песня была выбрана просто чудесно — отчасти романс, отчасти гимн, праздник любви, пролетающего мгновения, неослабевающей власти песни и того, что связывало их всех:
Поодиночке не горюйте, братья,
Ведь наша доля — надеяться и ждать.
Поодиночке не горюйте, сестры,
Над ерундой не стоит нам рыдать.
А ведь эта песня была пропета за вторым блюдом, фрикадельками под кисло-сладким соусом поверх картофельного пюре не только в качестве магического созыва так называемого Круга Друзей, предмета зависти моего скудного друзьями детства, но и ради того, чтобы избыть собственную вину… Разве она не согрешила точно так же, как Макс Эрик, променяв еврейский Вильно на Кросно, с его ужасающим фабричным комплексом, почти в сорока пяти минутах ходьбы от центра города, где было не к кому зайти и особенно нечем заняться? Поскольку эта «пустыня ассимиляции» не создала новых песен, Маше пришлось обратиться к существующему репертуару. На дуэты времени не было. Лейбл в лабораторном халате целыми днями бегал по фабрике и бесстрашно готовился к осуществлению акта промышленного шпионажа. Просто наблюдая, как главный химик смешивает ингредиенты для производства резины, он смог похитить коммерческую тайну. Немедленно трем молчаливым партнерам из Швеции было предписано отправиться восвояси, и Лейбл стал совладельцем и директором фабрики «Вудета».