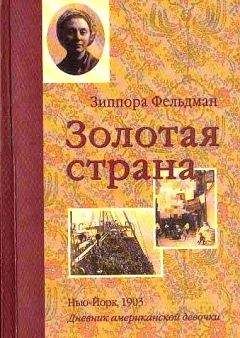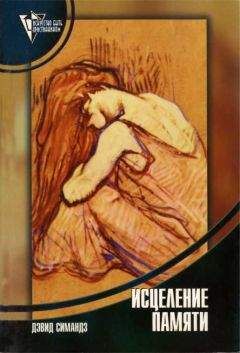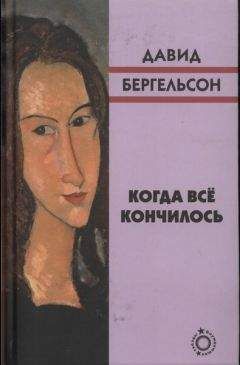Дэвид Роскис - Страна идиша
Мама начала посещать кладбище после смерти отца, и не только в элуль, месяц, посвященный общению с усопшими нашего семейства,[159] но и всякий раз, когда мне случалось бывать в городе. Поездка на кладбище в Де-ля-Саван была чем-то вроде семейной прогулки, учитывая, что после смерти моего брата отец продал могильный участок в Эдат Исраэль, которым владел в течение 40 лет, и приобрел права на другой, самый близкий к могиле Бена, какой он только смог найти на новом еврейском кладбище. Стоя у могилы Бена — может быть, потому, что рана не хотела заживать, а может быть, потому, что она еще не была осознана, — мама говорила мало, однако становилась разговорчивей, когда мы подходили к ее собственной могиле, на которой по ее требованию была начертана цветистая эпитафия отцу, «унзер эйнцикер, нашему единственному и неповторимому», и где ее собственная эпитафия — «шма колену, услышь голос наш» — однажды будет высечена на маминой части их общей с отцом могильной плиты. Услышь голоса наши, о Господи, услышь наш вопль, наш протест, Тебе не вырваться из наших цепких объятий, о Бог отмщения, прежде чем Ты завершишь свой труд.
Как-то в сентябре, бодрым пятничным утром, мама надела свой черно-коричневый твидовый костюм и соответствующую ему шляпу. Из кармана жакета она извлекла камень почти жемчужной белизны, который хранила специально для этого посещения кладбища в канун Рош га-Шоне.
«Ты знаешь, — сказала она, вертя камень в руках, — когда я еще была ребенком, Девятого ава, в годовщину смерти Юды-Лейба Маца, Фрадл нанимала три коляски, чтобы отвезти всех десятерых детей Маца к его могиле на Старом виленском кладбище в Шнипишках и прочитать там кадиш. Сама мама всегда оставалась дома. Когда я достаточно подросла, чтобы спросить ее почему, мне было дано следующее объяснение: Их гегер шойн нит цу им, я уже не принадлежу ему».
«Потому что теперь она была замужем за твоим отцом?»
«Ты прав. Юда-Лейб уже не имел духовных прав на мою мать. Но своенравное потомство Фрадл все еще было обязано произносить кадиш».
Оглядывая однообразный пейзаж, мама вдруг начинает возмущаться.
«Интересно, как это миссис Оберман удалось уговорить кладбищенские власти поставить скамейку прямо у могилы мужа, а мне приходится стоять? Я просила рабби Барона походатайствовать от моего имени и сделала им очень выгодное предложение, но все бесполезно!»
В праведном возмущении и, возможно, думая о собственной смерти, мама рассказала мне об одном из событий, сформировавших ее личность, неизвестную мне ранее историю открытия памятника ее матери.
Со смертью Фрадл Маша оказалась на попечении человека, который был ей безразличен. Ее отец отвергал все предложения женитьбы и отказался съезжать с их квартиры на Завальной, 28/30. Теперь их было только двое, да еще служанка. О том, что произошло потом, имеются лишь отрывочные сведения, поскольку следующая глава этой истории начинается через одиннадцать месяцев, когда, в соответствие с еврейским обычаем, настало время открытия памятника Фрадл, и Маша, вместо того чтобы втиснуться в последнюю коляску вместе со своими братьями и сестрами, отправилась на новое еврейское кладбище в Заречье в отдельной коляске вместе со своим отцом. Она плохо представляла себе, чего ожидать, поскольку обо всем позаботилась сестра Роза, которая вернулась домой после прекращения романа с унтер-офицером Корникером. Насколько я помню, теперь Роза могла заключить брак с Корникером, поскольку его жена покончила жизнь самоубийством во время войны, и помолвка должна была состояться в Берлине, где унтер-офицер Корникер должен был встречать ее на вокзале. И он был там в назначенное время, ждал ее на Лейпцигер-Банхоф, но только вместо похитившего ее сердце человека — удалого офицера при полном параде, с таким совершенством аккомпанировавшего ей на фортепьяно, — она увидела заурядного еврейского бюргера, по правде сказать, немного комичного в тесной жилетке и сюртуке.
Надпись на иврите на обелиске черного мрамора была проста и абсолютна недвусмысленна:
Любимая мама и достойнейший человек ФРАДЛ, дочь МОШЕ, МАЦ 18. X.1921Маша не могла поверить своим глазам. Все они стояли там — ее единоутробные братья и сестры, ради которых она отвергла своего отца, — и они вычеркнули ее из семьи. «Вое бин их эпес, а мамзер? — закричала она, обернувшись к Розе. — Ты что думаешь, я незаконнорожденная?» Фамилии Вельчер, которую Фрадл носила в течение восемнадцати лет, не было нигде. Теперь Маша Вельчер осиротела во второй раз.
Мы устроились на скамейке миссис Оберман, мама тяжело дышит.
«Это был самый тяжелый день в моей жизни», — произносит она, взяв меня за руку, ничего объяснять не надо, я все понимаю: родившая меня женщина сама родилась в тот самый момент, ее самоощущение определил однозначный разрыв с остальными детьми Фрадл Мац, их кровная месть ее отцу, их петушиный снобизм. И я понимаю, почему в маминых историях имя Розы связано с Корникером, который стоит на вокзале в своем цивильном платье. Так мама смаковала горечь последствий соблазнения Розы более ловким из двух бывавших в доме офицеров.
«Мои сестры ведь так никогда и не простили маме, что она вышла замуж по любви. Их семейная жизнь? Лучше не спрашивай. Да болото, а не жизнь. Если бы не святость окружающих нас сейчас мертвых, я бы рассказала тебе о Суравиче, вдовце, за которого моя сестра Роза в конце концов согласилась выйти. Жена Суравича, как и жена Корникера, покончила с собой».
«А что насчет Аннушки и ее второго брака с Варшавским?»
«Разводы тогда были делом обычным, как, в общем, и сейчас. (Последняя часть фразы была брошена на мой счет, ведь мой первый брак стремительно приближался к концу.) Но у людей моего круга было принято поступать, как подобает, однажды и навсегда, и мы остались тверды там, где они оплошали, поскольку сумели найти лебнс-баглейтер, настоящего спутника жизни, а не просто товарища по постели».
Под «своим кругом» она имела в виду Залмена Меркина, известного как Макс Эрик,[160] и его юную невесту Иду Розеншайн. Вильно повидал множество маскилим,[161] светских образованных евреев, но не случалось еще, чтобы сын банкира и орденоносный офицер с дипломом по юриспруденции бросил все, чтобы посвятить себя борьбе за модернизм и идишскую литературу. Каждая его лекция о Менделе, Переце[162] или экспрессионизме становилась манифестом. Из всего курса он выбрал Идочку, не самую блестящую студентку, но, несомненно, самую красивую, она ответила взаимностью, что доказывает — девушку можно заполучить с помощью одного лишь интеллекта, поскольку преподаватель — толстенький и рано облысевший — больше походил на сына банкира, чем на enfant terrible.[163] Она имела в виду также Шмуэля Дрейера, который был небезразличен к моей матери. Он женился на Ривче,[164] и это была во всех отношениях образцовая партия — адвокат, идишский журналист и будущая основательница Майдим, первого виленского кукольного театра.