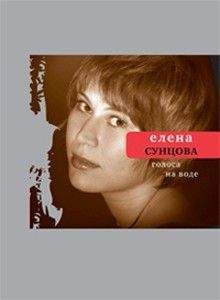Ольга Мочалова - Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах
Критиком он был решительным, бил с плеча, так как художеством не шутил. О ненависти к выспренней отвлеченности и разговаривать не приходилось. Его путь был — наблюденье подробностей.
«При сахарном песке в чашке чаю — пеночка».
«Шел с работы, остановился и долго смотрел, как у лошади от брызг дождя подрагивает живот».
В его поэтическое credo входила определяющая мысль: «Что здорово, то здорово». Трепак, озорничество, разделыванье «под орех» — вот его стилистический вкус.
Из отдельных высказываний вспоминаю:
«Роза — не более чем хорошенькое, но есть — прекрасное».
«Есенин — смесь балалайки с гитарой».
«Демьян Бедный роднится с дядей Михеем, рекламировавшим коньяк Шустова. Но в этом роде он — мастер».
«Как хорошо у Лермонтова»:
«Пускай она поплачет,
Ей ничего не значит»[259].
«Лучшие вещи Пушкина: „Граф Нулин“ и „Золотой петушок“»[260].
В дальнейшем он любил Назыма Хикмета и Неруду.
Героями его литературных вечеров были Иван Аксёнов и Сергей Бобров. За ними он ходил по пятам.
Мне не нравилась его эротика. Находила хлестаковской сальностью такие изъяснения, как:
«Сокрытое в просторной блузе
Доступно, как младенцу мать,
Неоткровенностью иллюзий
Сама спешит пренебрегать».
Или в стихотворенье «Женщина»:
«Знали эту благодать
Каждые отец и мать».
«Цветные огонечки» (его выраженье), думается, большее, что он видел за явленьями жизни.
После войны, перенесенных тяжелейших испытаний, он пришел ко мне с разрушенным здоровьем, поврежденной рукой, неспособной к пианизму. Очень изменился, облысел, похож был на Андрея Белого. Рассказывал, что служил в противотанковом батальоне. Бойцы шли перед своими наступающими танками навстречу танкам противника, что и делало их абсолютно беззащитными и бессмысленно обреченными. В дальнейшем, погубив множество бойцов, ко-мандованье отменило противотанковые батальоны. Георгий Николаевич был засыпан землей, ослеп, оглох. «Но это, — говорил он, — все еще пустяки, а вот Ане, девушке, пошедшей героически на фронт, оторвало ноги, и она умерла, истекая кровью. Да и что за жизнь без ног?» Очень тяжело переживал Георгий Николаевич предательство, подлость, но распространяться об этом в своем творчестве не хотел[261].
Поэты высоко ценят его «Живописное обозренье»[262], описанье цветов и плодов, «каталог очарований», по выражению Аксёнова, но я, к сожаленью, его не знаю.
Смелый и яркий переводчик[263], Г. Н., получив подстрочник, умел переводить тут же на столе редактора. Получалось целостно и законченно.
Говорят, что в гробу он лежал с бакенбардами, похожий на Пушкина. Собралось много народа, но большей частью — увы! — как на проводы мужа Благининой.
Как-то давно был у меня разговор о Г. Н. с Надеждой Медведковой[264]. Она: «При всех его недостатках я его люблю». Я: «При всех его достоинствах я его не люблю».
Егор — так требовал он себя называть (совершенно неподходяще), остался ярким образом энтузиаста-художника, презирающего материальные блага. Ряд образов остался для меня подарком его поэзии. «Бриллиантовые застежки» — перебегающие лунные огоньки на снегу. Навсегда врезан в память его «Сонет».
«Эх, кабы Пресвятая Дева
Хоть бы отчасти помогла!
Но ни направо, ни налево
Тебе не отойти от хлева,
И нет значительней согрева.
Чем обжитой уют угла».
Как ярко и жарко вырвалось признанье:
«Я был царевной на Припяти,
На берегу скул любви монгольской».
Как хорош был его «Туркестан». Он потерял оба эти стихотворенья[265].
Думается, что его дар не нашел себе верной дороги.
Его последний сборник назывался «Лепетанье Леты»[266]. Сколько прелести в этом наименованье.
Мне он говорил: «Настоящая поэзия — в плохих стихах»[267]. Впрочем, это не было заключительным мнением.
«Для жизни нужно живьё», — говорил Георгий Николаевич. Пускай же останется он живым среди живых.
4. Маргарита. Маргарита Тумповская
Маргарита Марьяновна Тумповская. Это имя должно заинтересовать литературоведа, как имя одной из возлюбленных Гумилева, если уж не вникать в ее собственное поэтическое творчество, оставившее следы в печати. Упомяну [ее] прекрасную статью об Н. С. в «Аполлоне»[268]. В заключение своей заметки прилагаю единственное уцелевшее в моих окрестностях стихотворенье, напечатанное в альманахе «Дракон» (1921)[269].
Гумилев посвятил ей не одно стихотворенье, не помню всего, но назову «Сентиментальное путешествие»[270] (кажется, только в посмертном сборнике) и — главное, главное — одну из наиболее пленительных своих лирических жемчужин, кот[орое] привожу:
«За то, что я теперь спокойный,
И умерла моя свобода,
О самой светлой, самой стройной
Со мной беседует природа.
В дали, от зноя помертвелой,
Себе и солнцу буйно рада,
О самой стройной, о самой белой
Звенит немолчная цикада.
Увижу ль пены побережной
Серебряное колыханье, —
О самой белой, о самой нежной
Поет мое воспоминанье.
Вот ставит ночь свои ветрила
И тихо по небу струится, —
О самой нежной, о самой милой
Мне пестрокрылый сон приснится»[271].
Мы шли по Массандровской улице Ялты, когда он мне прочел эти строки, незабываемые никогда. В июле 1916 года.
Какой это был год? Наступила осенняя пора. Во Дворце искусств (Поварская, 52) Брюсов вел поэтический семинар. Набралось много буйной молодежи. Читали стихи, кто во что горазд. А горазды были больше всего на самонадеянные выкрики. Помню, об одном из прочитанных произведений Валерий Яковлевич сказал: «Здесь самое интересное выраженье у Вас — „море вздурило“». Я сидела в тесной толпе малознакомых авторов. Кое-кого я видела раньше. Один из поэтов попросил у меня тетрадочку стихов и вернул с единственным замечанием: «Смял не я».