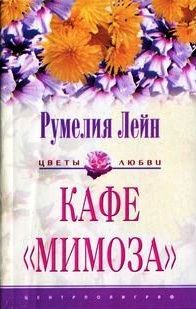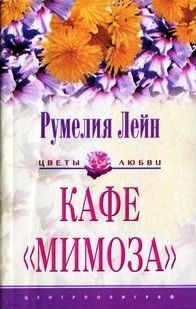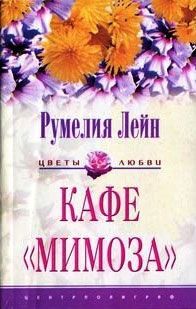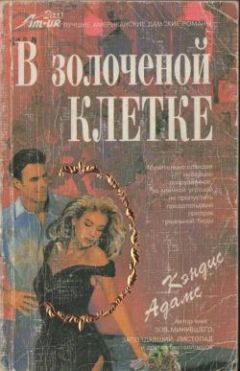Виктор Розов - Удивление перед жизнью
— Да, — негромко ответил N.
Ну и все! Ну и будет! Люди вновь хотели вернуться к спору. Но стоявший мужчина продолжал:
— Не могли бы вы сказать, на каком участке фронта вы были?
— Я воевал под Дорогобужем.
Вопрошавший неожиданно радостно оживился.
— Представьте себе, — сказал он, — я воевал на том же направлении. Какое счастье, что я вас не убил!
Зал рассмеялся теплым смехом. Концы проволоки соединились, контакт возобновился, и споры вспыхнули с новой энергией.
И еще об одном своем старом друге хотел бы я вспомнить. Удивительное совпадение, но его тоже звали Кирилл. Кирилл Воскресенский.
Он пришел в нашу школу сразу в шестой класс, до этого времени он получал домашнее образование. Родители его вообще, видимо, не хотели учить детей в советской школе, они были из зажиточной семьи, имели до семнадцатого года в Костроме гостиницу и жили вполне обеспеченно. После революции гостиницу у них конфисковали, но оставили маленький деревянный домик в три окна, который размещался как раз напротив дома, где жила наша семья.
Новичок влился в класс абсолютно органично и по уровню образования, и по чисто человеческим, товарищеским качествам. И так как мы жили рядом, вернее, друг против друга, то в первый же день знакомства пошли пешком из школы вместе. И вот эта дорога вместе стала длиной во всю жизнь. Он умер здесь, в Москве, когда приехал навестить сына из Ленинграда. Задушила стенокардия. Навестив его в Первой градской больнице в очередной раз, я узнал, что его переводят в реабилитационный санаторий под Москвой, в этот день, в этот час. Проводив его до двери, я попрощался. Уже выходя, он обернулся, посмотрел на меня каким‑то особым взглядом, за которым угадывалось нечто потустороннее, и на мои слова: «Я тебя на днях навещу в санатории», улыбнулся и исчез за дверью навсегда.
Трудно словами объяснить, что такое дружба. Пожалуй, можно указать на ее особые приметы. Вот одна из них. Мы сидим в столовой их на редкость уютного домика, делаем уроки. Сделали, о чем‑то поболтали, занялись марками, потом просто сидим и молчим — долго. Наконец я говорю: «Будь здоров, я домой пошел». А он: «Посиди еще». Опять сидим и молчим, и как‑то хорошо на душе, уютно. Другой пример: идем в школу, болтаем, но не без умолку, с паузами. Шагаем молча. Говорю: «Я знаю, о чем ты думаешь». — «О чем?» — «Хорошо бы в воскресенье съездить рыбу половить». Смеется: «Верно». Третий пример: война разбросала нас в разные стороны: он на Дальнем Востоке, я свое отвоевал, живу в Москве. Года три с лишним от него ни одного письма, а потом пишет: «Виктор, здравствуй! Я тут женился, у меня сын родился…» — и так далее, как будто мы не виделись со вчерашнего дня.
Домашнее воспитание он получил не только учебное, но, что гораздо важнее, нравственное, никогда не жаловался на жизнь, вечно был доброжелательным. Понимание честности было, можно сказать, идеалистическим. От этого он понес определенный урон. Служа в армии — он был по профессии военный, закончил академию имени Ворошилова, — на Дальнем Востоке, он сошелся с женщиной, служившей официанткой в столовой, и женился на ней. Разница их интеллектуального уровня была громадной. Родители Кирилла, да и вся родня, были просто оскорблены этим мезальянсом. Образовалась своего рода блокада, блокада Нины — так звали его супругу, — это лично я считал всегда несправедливым. Такие действия, как брак, — дело только двоих. Например, мои родители не вмешивались в семейные отношения ни моего старшего брата, ни в мои. Никогда не забуду, как я, живя уже в Москве и женившись, поехал в Кострому навестить отца — мамы не было на свете. Сидим с отцом как‑то вечерком за столом, пьем чай, ведем беседу. Отец между прочим спрашивает: «Говорят, ты женился?» Я отвечаю: «Да», и разговор на этом прервался, тема была исчерпана. Это не было равнодушием отца ко мне или моим — к нему, это было личное мое дело. Так же считал и отец.
Нина была человеком неплохим, но в какой‑то степени действительно не ровней Кириллу Однажды я спросил его: «Почему ты женился на Нине?» И он ответил: «Видишь ли, когда я сошелся с Ниной, она сказала: «Теперь мы должны пожениться», и я подумал, нельзя же поступить иначе, если я уже сошелся с ней. Это было бы с моей стороны нечестно». Она умерла в один год с мужем, и прах их захоронен в стене Митинского кладбища в Москве.
С юности мы поверяли друг другу все свои мысли. Несколько лет подряд мы в летнее время спали в их доме, в парадных сенях — двери оттуда на улицу не открывались с незапамятных времен. Мать Кирилла, Анна Киприяновна, устроила там большие топчаны, на которых мы и почивали. Будучи уже молодыми людьми, мы иногда являлись в дом на рассвете и никогда не затевали разговор на эту, опять‑таки интимную, тему, не вторгались в святая святых. Вообще в те годы в среде, в которой я рос, не принято было даже мимоходом говорить с кем‑либо о своих любовных похождениях, это считалось нескромным. Жизнь шла нормально, и таким было наше поведение. Я совсем не хочу сказать, что Кирилл был святым или «недопеченным», нет, в его жизнь вторглась настоящая любовь, сильная, безрассудная, какой и полагается быть настоящей любви. В одну из наших с женой поездок в Ленинград Кирилл рассказал мне свою тайну — разговор у нас был серьезный, так как Кирилл просил моего совета: уходить ему от жены и семилетнего сына или нет?
Зная моего друга, я понял, каким жарким пламенем он объят. Мы долго бродили по ленинградским улицам, обсуждая сложившуюся ситуацию. Правильный я дал ему совет или нет, сам до сих пор не знаю. Может быть, кто‑либо и осудит меня. Вот что я ответил: «Кирилл, пожалуй, лучше будет, если ты не бросишь свою семью. У тебя маленький сын, у той женщины есть муж и тоже маленькая дочка, смотри, сколько будет страдающих. Твоя любовь тайная, пусть она тайной и останется». Я дал такой совет и потому, что незадолго до этого разговора, покупая в Москве на Центральном рынке грибы (торговый день уже подходил к концу), я увидел женщину, стоявшую не внутри рынка, а за прилавком вне его, возле нее лежала кучка грибов, а рядом, на этом же прилавке, лежал на спине с открытыми глазами мальчик лет восьми — девяти. Я спросил женщину: «Что, мальчик очень устал?» Она ответила: «Нет, он больной, у него разошлись отец с матерью, он помешался. Теперь он все со мной, с бабушкой». И я унес с рынка не только грибы, но и это тяжелое впечатление.
В разговоре с Кириллом я не упомянул об этом событии, но оно сидело в моей голове. И Кирилл согласился со мной. Я не могу сказать, что мой друг очень мучился сложившейся ситуацией, конечно, он понимал ее греховность, но по сияющим его глазам, когда он упоминал о своей возлюбленной, я понимал, что его любовь была настоящей, той, что называется божественной.