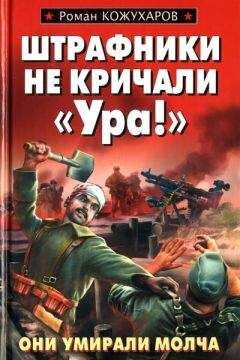Мартин Писториус - В стране драконов. Удивительная жизнь Мартина Писториуса
– О нет! – восклицает доктор Брайен. – Я с вами решительно не согласна. Разве вы не понимаете, Мартин? Нельзя просить других людей дать вам разрешение мечтать. Нужно просто делать это.
Я не уверен, что понимаю, что имеет в виду доктор Брайен. Всю мою жизнь люди кормили меня, выбирая за меня еду, меня укладывали в постель, когда решали за меня, что я устал. Меня одевали так, как считали нужным, и разговаривали со мной так и тогда, как и когда хотели заговорить. Меня никогда не спрашивали, чего хочу я сам. Я не знаю, как самостоятельно принимать решения, не говоря уже о том, чтобы мечтать… Я смотрю на нее. Я так много знаю об ожиданиях других людей – и так мало о своих собственных!
Но что, если она права? Может быть, мне пора принимать самостоятельные решения теперь, когда я обрел свой голос? Я только начинаю понимать, что где-то в конце этого путешествия, вероятно, ждет меня та самая свобода, которой я когда-то не мог себе и представить. Я смогу быть человеком, которым хочу быть; но дерзну ли я мечтать о том, что это за человек?
21: Тайны
Необычной стороной моего положения призрачного мальчика было то, что люди нечаянно показывали мне свои тайные, непубличные стороны. Я слышал, как они, идя по комнате, испускают газы громче пистолетного выстрела или глядятся в зеркало так часто, будто надеются увидеть в нем более красивую версию самих себя, возникшую по волшебству. Я видел, как ковыряются в носу и съедают то, что из него вытащат, или поправляют липнущее белье, а потом чешут промежность. Слышал, как ругаются и бормочут себе под нос, бродя по комнате. Я наблюдал, как разворачиваются ссоры и как подменяют факты ложью, чтобы попытаться выиграть состязание.
Люди раскрывались и другими способами: в прикосновении, которое было мягким и заботливым – или грубым и безразличным; в шарканье ног, выдававшем усталость, когда они входили в комнату. Если человек был нетерпелив, он вздыхал, умывая или кормя меня; если он был раздражен, то стягивал с меня одежду грубее обычного. Радость выстреливала из них подобно небольшому электрическому разряду, а тревожность выражалась в тысяче выразительных знаков: от изгрызенных ногтей до волос, которые снова и снова заправляли за уши, пытаясь сдержать озабоченность.
Однако труднее всего было скрывать печаль, потому что у скорби есть свои способы просачиваться наружу, как бы тщательно человек ни старался ее прятать. Нужно лишь присмотреться – и увидишь, но большинство людей не присматриваются, и потому-то столь многие остро ощущают свое одиночество. Думаю, именно из-за него некоторые и разговаривали со мной: разговаривать с другим живым существом – сколь угодно неодушевленным – было лучше, чем не разговаривать ни с кем.
Одним из людей, которые поверяли мне свои секреты, была Тельма – сиделка, которая работала в дневном стационаре, когда я там появился. Часто она оставалась вместе со мной и другими детьми, пока мы ждали приезда родителей в конце дня. Каждый день я сидел, прислушиваясь в ожидании того момента, когда белая дверь в конце коридора скрипнет, уступая открывающей ее руке. Потом, когда в коридоре слышалось эхо шагов, я пытался угадать, кто это: цоканье высоких каблуков означало, что за Кориной приехала мама; тяжелые армейские ботинки говорили мне, что это отец Джорики; мягкое буханье ботинок свидетельствовало о приходе грузного мужчины, каким он остается и по сей день, – моего отца, а походка матери была почти неслышной, ее быстрые шаги издавали лишь приглушенный шелест. В иные дни мне удавалось угадать каждого еще прежде, чем он входил в комнату, но порой я не мог определить ни одного из посетителей.
Каждый день другие дети уезжали, один за другим, и в здании постепенно становилось тихо: телефоны переставали звонить, люди переставали шуршать, в ушах шумело, когда выключали кондиционеры – и мозг заполнял эту тишину белым шумом. Вскоре ждать оставались лишь мы с сиделкой, и я всегда радовался, если это была Тельма, потому что она никогда не сердилась, что мой отец опаздывает.
Однажды днем мы сидели вместе, слушая песню по радио, и глаза Тельмы уставились в пространство. Я чувствовал, что ей сегодня грустно.
– Я так по нему скучаю, – внезапно произнесла она. Хотя моя голова была склонена на грудь, я слышал, что она заплакала. Я понимал, о чем она говорит: сотрудники шепотом разговаривали об этом друг с другом – ее муж умер.
– Он был хорошим человеком, – шептала она. – Я думаю о нем постоянно, каждый день.
Раздался скрип, Тельма пошевелилась в кресле, сидя рядом со мной. Ее голос задрожал, и слезы закапали быстрее.
– Я все время вижу его, каким он был под конец. И все время думаю: понимал ли он, что происходит? Что он чувствовал? Боялся ли он, было ли ему больно? Достаточно ли я сделала? Все это снова и снова вертится у меня в голове. Я не могу перестать о нем думать.
Она всхлипнула еще громче.
– Как жаль, что я не говорила ему чаще, что люблю его, – продолжала она. – Я слишком редко говорила это, а теперь у меня не будет больше такой возможности. Я никогда не смогу сказать ему, что люблю.
Тельма плакала и плакала, сидя рядом со мной. Я чувствовал, как внутри у меня все сжимается и завязывается в узел. Она была доброй женщиной, она не заслуживала такой боли. Как мне хотелось сказать ей, что она была хорошей женой! – я уверен, что так и было.
22: На волю из кокона
Был ли неизбежен ужас перед одиночеством после стольких лет, проведенных в одиночестве? Через месяц после того семинара в коммуникационном центре я вновь здесь, на недельных курсах по аугментативной и альтернативной коммуникации, или ААК. Все мы приезжаем в этот Центр – такие как я, пользователи ААК, наши родители, учителя и терапевты, работающие с нами. Этот курс предназначен для изучающих ААК студентов, собирающихся защищать диплом по данной дисциплине, а меня пригласила принять участие профессор Алант – директор Центра. Мама ездила со мной каждый день, но сегодня утром ей пришлось отправиться в магазин компьютерного обеспечения, потому что возникла проблема с одним из моих переключателей. Так получилось, что я здесь совершенно один.
Оглядывая зал, полный незнакомых людей, я понимаю, что не могу припомнить случая, когда рядом со мной не было бы ни одного члена моей семьи или сиделки. Я провел годы в принудительном одиночном заключении внутри самого себя, но никогда не был один физически – вплоть до сегодняшнего дня. И не могу вспомнить такие времена своего взросления, когда, будучи ребенком, все дальше и дальше уходишь от дома, пока не наберешься храбрости впервые в одиночку завернуть за угол. Я никогда не был подростком, совершающим первые шаги к взрослой жизни и независимости, бросая вызов родителям и заставляя их не спать в ожидании всю ночь.

![Сергей Козлов - Исторические предпосылки создания спецназа, 1701-1941 гг. [том 1]](/uploads/posts/books/193149/193149.jpg)