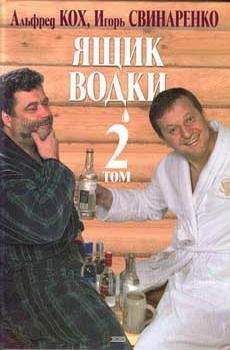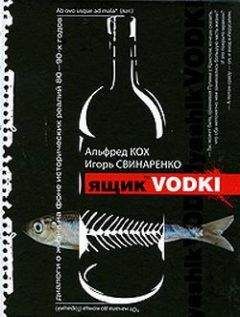Ящик водки - Кох Альфред Рейнгольдович
– Я, может, боюсь себя реализовать на 100. Потому что там такое может всплыть, что не приведи Господь. Пусть лучше это будет меньший процент.
– Тебе не нравится, когда люди реализуют себя на 100?
– Нет, я говорю про себя сейчас. О том, что, может быть, состаиваясь, не следует выбрасывать во внешний мир все, что у тебя есть.
– А из чего ты состоишь?
– Ну как? Я человек слабый, грешный.
– Э-э-э, это банально.
– Ну и что? Я же не клоун-эксцентрик, который обязан быть оригинальным во всех случаях, чтоб его с работы не выгнали. Я придумываю свои мысли без оглядки на вот это, мне и без публики комфортно.
– А со своей журналистской точки зрения ты ведь должен понимать, что реализация – это интересно.
– С этой – да. Когда человек реализует себя на все 100, это привлекает внимание. Потому что в таком случае образуются какие-то сгустки энергетических потоков. Поэтому интересно. А правильно, неправильно – откуда я знаю?
– Не наша задача судить.
– Моя задача – увидеть, где же перекрестки энергетических потоков. И как-то пытаться к ним приблизиться и их отразить, зафиксировать в смешной форме.
– Почему в смешной?
– Ну, по простой причине: если ты ни разу, почитав текст, не засмеялся – текст не удался.
– Неправда.
– Это мой субъективный взгляд. У меня он именно такой.
– А я, например, считаю, что высшей формой литературы является Евангелие.
– Возможно. Но и там, заметим, есть место для юмора.
– Там нету места для юмора. Я ни разу не засмеялся, прочитав эту книгу. Я умилился – было. У меня лицо расплылось в улыбке – было. Но это не смех.
– Ну, мы тут не обсуждаем Библию.
– Почему не обсуждаем? Это же литература.
– Ну хорошо, давай обсудим как литературу. Я помню, разговаривал с режиссером Лунгиным, и он мне сказал: «У Христа не было чувства юмора». Меня такая формулировка удивила и даже как-то покоробила. Мне стало обидно за Иосифовича! Я вдумался в это – и понял, что на самом деле у него чувства юмора полно; чего стоит один прикол с превращением воды в вино!
– Да-да.
– Это же ломовой прикол! Можно ли без чувства юмора такое учудить? В общем, мне кажется, это несправедливое утверждение – что-де у Христа не было чувства юмора. У него было ломовое чувство юмора. Как он на осле въехал в Иерусалим… На осле! А мог бы себе позволить въехать в карете на тройке. А он говорит: «Нет, дайте я въеду на осле». Это настолько тонко… И смешно, в хорошем смысле слова. А вот исцеление Лазаря: ну-ка давай, встал и пошел! Публика удивилась такому заходу. А он снова за свое… И после этого еще говорят, что у этого человека не было чувства юмора. Если читать Евангелие как литературу, то там много элементов комедии. Такой постмодернистской. Там есть, где посмеяться, дяденька.
– С Лазарем там проблемы были. Он уже пах, то есть у него уже началось трупное разложение.
– Денатурация белка.
– Не, ну денатурация раньше произошла. А это уже разложение началось, он просто начал гнить. Он пах. Поэтому здесь не идет речь о разоблачении типа симулянта.
– Разложение – это тоже денатурация. Ну да ладно, это к делу не относится. А если вернуться к Березе, то это ты, Алик, имел с ним проблемы. А я с ним не имел проблем. Но он мне не глянулся. Алик, я не обязан ко всем гонимым испытывать симпатию.
– Нет, не обязан.
– Тем более я начал испытывать антипатию к Березе, когда он был на коне. Моя совесть здесь спокойна.
– Да. А что ты от меня хочешь?
– Мне было неприятно, когда он влезает, куда не просят. Прессу скупает всякую.
– Опять плохо! Да ты просто социалист. Старик, ты социалист!
– Да пошел ты. Отродясь я не был социалистом. И в партии их не состоял.
– …мне противна твоя социалистическая идеология. Какое ты отношение имеешь к Березе, к купленной им прессе? Ты был нанятым работником.
– Я могу одних политиков любить, других не любить.
– Можешь.
– Я хоть и не желал успеха Березе в деле скупки масс-медиа, тем не менее ему в этом не препятствовал.
– Да. А ты и не мог.
– Я просто испытывал личную неприязнь. Имею я право испытывать к Березе глубокую неприязнь?
– На основании купли-продажи – нет.
– А я позволяю себе испытывать. Вот такой я.
– Я и говорю, что ты – социалист.
– Да не состою я в социалистической партии и никогда за нее не голосовал. Я, значит, не социалист. Я не разделяю ни ее теории, ни практики, ни избирательной платформы.
– А практику социалистической партии ты знать не можешь, потому что у нее нет никакой практики.
– Дело в том, что я никакой политической практики вообще не имею. Кроме голосования за вашу партию. На хер. В Индии. В торговом представительстве Российской Федерации.
– Да.
– Кстати, там же была смешная картинка, про русскую политику. В Индии нас была довольно большая компания. И пошли дебаты: вот, народ какой несознательный, он то не делает, он того мало делает, о том-то недостаточно печется и прочее. Я говорю: что, вы осуждаете народ за слабую политическую активность? Ну, отвечают. Так вы, говорю, лучше б заткнулись! Сами поленились проголосовать со мной съездить! Жопу лень было поднять с лавки! У нас был люфт – пара часов, между самолетами, ждали местный рейс на Гималаи. Была возможность поехать в торгпредство России проголосовать, это совсем рядом. Решаются, может, судьбы страны… А вам – народ несознательный! Дико красивая получилась схема. Причем когда я пошел в кабинку со своим бюллетенем, подумал о том, что эти чекисты, которые считают голоса в посольствах, уже все нормально посчитали, как положено. Там, как мы любим, 99 % – за нерушимый блок и лично по имени-отчеству. Я великолепно понимал, что это все филькина грамота – мой бюллетень. Это был символический акт, который никого не е…ёт. И естественно, мой бюллетень в сортир индийский отправили. Или на растопку костров, где жарят вдов умерших магараджей.
– Ха-ха!
– Ну, красивая ситуация?
– Да, очень.
– Русская политика! С умным видом сидят, вещают. Поучают. А сами жопу не могут поднять… Значит, 2000 год. Я тогда активно ездил по зонам.
– А что подвигло тебя? Почему вдруг? Что это за трансцендентальное «Русские сидят»?
– Началось с того, что однажды, едучи в машине, я услышал по радио выступление Валерия Абрамкина. Диссидента…
– Знаю, да.
– Он говорит: вот у нас комитет какой-то, по зонам ездим, помогаем. И я подумал: как интересно. Записал адресок, который он продиктовал: Лучников переулок, 4. Возле Политехнического музея, на задах бывшего ЦК комсомола. Ну и решил я интервью про это сделать. Нашел я, значит, Абрам-кина… А он такой доходяга лагерный. Измученный туберкулезом. И он мне рассказал про свою жизнь. Говорит, что тюрьма – это настолько вещь отвратительная, что, если бы его вернуть обратно в 70-е, он бы сделал все, чтобы уйти с этой дороги, никогда не сесть. Он столько раз был близок к тому, чтобы там вскрыться. Ему уже ребята мойку достали. Ну, мойка – бритва в смысле. И когда он говорит, что та жизнь его смолола, когда он еще в этом откровенно признается – ну, во мне это вызывает глубочайшее уважение.
– Это может сломать кого угодно. Я считаю, что Шаламов прав – тюрьма не дает никакого позитивного опыта. Она дает опыт выживания. Я свое тольяттинское детство вспоминаю. Там нет ни одного светлого пятна. Только любовь. Любовь к одноклассницам – и все. А остальное – все это тактика выживания.
– Определение, которое кто-то из великих дал тюрьме: это уже полдороги к кладбищу. То есть действительно человек уже отправлен на списание, типа.
– Нет, это неправда.
– Алик, это наблюдение и мысль человека, который сам сидел. Действительно, там люди уже отчасти списаны. И я вот, когда описывал какие-то издевательства в русских тюрьмах над людьми и сравнивал с концлагерями немецко-фашистскими, то нашел вот такую грань, как мне кажется, весьма принципиальную. Что когда, допустим, фашисты издевались над людьми в лагерях, то в этом была своя логика: вот узников помучили, а дальше – газовая камера и крематорий. Нет обратной связи, нет возвращения оттуда в нормальный мир, не будет на него негативного разрушительного воздействия. Но когда в наших русских тюрьмах людей мучают, делают с ними невообразимое, а потом выпускают обратно в наш мир! И зэки выносят всю ту мерзость к нам! В этом логики уже нет. И еще мне Абрамкин рассказывал про туберкулез, который принципиально не лечится – есть такие формы. Он рассказывал со знанием дела, как туберкулезник зоновский. Если у человека туберкулез и он начал его лечить, чуть-чуть полечил и перестал, недолечил, то вот эти микробы – как они называются?